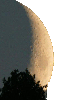 |
 |
 |
| Содержание | 12.03.10 |
2.7. «О подвигах, о славе и геройстве», о причудах судьбы и вкладе в отечественную культуру родителей Е.А. Мелентьевой, работников театрального искусства
И опять начало июня 41-го и наши проводы в Бобруйск. Пришли проститься с нами и родители Екатерины Александровны. Минна Анисимовна Гутман, мама Е.А., целует и обнимает собравшихся, но особенно нежно она прощается с Шурочкой - моей мамой. Говорит, что любит ее и что не придти проводить нас они, конечно, не могли. Тем более, что и живут тут рядом - на Перовской.
Но есть у них с Александром Петровичем и трогательная очень «интеллигентная», так скажем, просьба - поклониться дорогой их Белоруссии, где прошли их с мужем лучшие молодые годы. Этим летом они и сами собирались было ехать в Минск, чтобы повидать своих друзей актеров, проехаться по окрестным городам и селам. Хотелось и на Украину заглянуть. Давно мечтали вновь увидеть места, где начиналась их «боевая» театральная карьера. Даже билеты уже были куплены на поезд!
Но эти планы сорвались Неожиданно, как снег на голову, приехали их давние знакомые с Селигера и предложили пожить у них все лето там на даче. И при том совсем бесплатно! Так что в следующие выходные, правда, пока только втроем – лишь с Катенькой - они туда и уезжают. А после окончания занятий в институте к ним присоединится и Л.А. Там прекрасная рыбалка и охота! Собственно из-за этой страсти зятя они и отложили свою поездку в Белоруссию и на Украину. Но, ничего – перенесем ее на следущее лето!
Увы, каприз судьбы - разлука с этими милейшими людьми окажется довольно долгой, и много бед и им и нам за это время придется испытать. Однако их могло быть больше в десятки и даже тысячи раз, не откажись они по случайному стечению обстоятельств от первоначальных намерений увидеть Белоруссию и Украину!
Писателя Алексея Толстого когда-то упрекали в «литературщине» за множество «случайных» встреч героев его романа «Хождение по мукам» на дорогах и вокзалах Гражданской войны. Удивительно, но и у нас в преддверии войны на Детскосельском вокзале тоже произошла случайная и незапланированная встреча. Среди толпы провожающих мама вдруг заметила Геню Яковлевну Богданову - учительницу, работавшую с ней в одной школе в параллельном классе. Оказалось, что она «с проводником» (существовал в советские времена такой необременительный по деньгам способ «пересылки» своих детей к родным и близким) нашим же поездом отправляла на лето в Белоруссию двух своих дочек к бабушке и дедушке. Но ехать им предстояло дальше после «нашего» Бобруйска почти к границе. Страшно сказать и написать об этом, но лето 1941-го года станет для ее девочек последним в жизни! Обе они вместе с родителями Гени Яковлевны будут расстреляны! Все до единого евреи в том их «местечке» будут уничтожены фашистами.
И снова случайные встречи и совпадения. Мы снова встретились с Геней Яковлевной уже после войны – и опять случайно. Оказалось, что она работает уже в моей школе и ведет занятия в соседнем первом «е» классе! И было у нее под началом, помню хорошо, 49 учеников! А помню потому, что все мы - даже, кажется, и учителя, побаивались ее «сорвиголов» детдомовцев. И лишь она одна могла справляться с ними. И не только, благодаря педагогическому своему таланту. Осиротевшее ее сердце было наполнено сочувствием и любовью к этим осиротевшим детям, искалеченным войной, оставившей их без родителей.
Но это еще не конец всем случайностям, связанным с Геней Яковлевной. Вы не поверите, но через двадцать лет была еще одна встреча и совпадение по законам единства места и времени русской классической драмы. В начале 1970-х годов мы обменялись и переехали в район новостроек на проспект Энергетиков. Казалось бы, невозможно, чтобы в пятимиллионном городе мы оказались не просто на одной улице, но и в одном доме, и даже в одном подъезде! «Бабушка Женя», так стали называть ее мои дети, полюбила наше семейство. И мы много лет дружили. Сколько раз она нас выручала, отпускала в театр, сидела со старшими детьми, лаской и строгостью занималась их воспитанием. Завести новых собственных детей, после гибели двух дочек, она уж не решилась!
Александр Петрович Гутман - отец Е.А., не сыгравший, насколько знаю, ни одной главной роли ни в театре, ни в кино, был артистом в самом высоком смысле слова и колоритнейшею личностью!
Помните знаменитую фотографию Эйнштейна: нос с горбинкой, глазища в пол-лица, иронический пытливый, но благодушный взгляд, лохматые седые брови и усы, пышная грива волос, уложенных красиво полускобкой. Таков был А.П. Артикуляция, жесты, четко размеренная речь, как у артистов петербуржских академических театров. Куртка «разлетайка» какого-то особого «художнического» покроя – как у Ильи Репина на автопортрете.
Оба с женой они были родом из Пензы, где родилась и наша Екатерина Александровна, жена Л.А. Здесь до 1917 года А.П. работал режиссером в местном драматическом театре. Пенза, как известно, город Всеволода Мейерхольда, так что вполне допускаю их личное знакомство. После 1917 года А.П. оказался уже на западе России - работал в «народной милиции города Минска». Вернее, при ней, где и произошла их встреча с Фрунзе, избранным в Февральскую революцию ее начальником и членом военного комитета Западного фронта. К сожалению, не помню никаких его характеристик знаменитого военачальника.
Я уже писал, что дед Л.А. знал революционера Петра Лаврова, с улицей «имени которого» связаны десятилетия жизни и самого Л.А. и всего нашего семейства Мелентьевых. Теперь же обращаю внимание читателей на тот факт, что семья жены Л.А. имела многолетнее знакомство с Фрунзе, на улице «имени которого» Л.А. посчастливилось жить в Ленинграде многие хорошие годы!
В 1918-1920 гг. А.П. Гутман стал директором организованного им 1-го фронтового театра на Южном фронте, которым с января 1919 года командовал легендарный полководец. С армией Фрунзе А.П. прошел всю гражданскую войну. Вместе с отцом и матерью при театре находилась и Е.А. Ставили для «революционного народа» героический репертуар - Шиллера в основном. «Вильгельм Телль», «Разбойники», «Дон Карлос», «Коварство и любовь». «Массы» хорошо воспринимали это, и принимали его спектакли «на ура!». Кстати, подобное театральное действо, описывается у того же Толстого в тех же «Хождениях по мукам».
К вопросу о богатстве общения Е.А. С Гражданской и фронтового театра при армии Фрунзе шла ее многолетняя дружба с выдающейся поистине народной артисткой – знаменитой исполнительницей песен народов СССР Ирмой Яунзем. Ярким ее талантом восторгались Ромэн Роллан, Иван Козловский, Любовь Орлова и даже Иосиф Сталин. Горький в одном из писем к Ольге Форш сообщает: «А в Москве я покажу Вам женщину, которая изумительно поет калмыцкие, бурятские и вообще всяческие песни. О! Это мармелад и перец! Талантлива, как черт!».
На своей книге «Человек идет за песней», изданной «Молодой гвардией» в 1968 году, есть дарственная надпись: «Моей любимой Катеньке Мелентьевой с искренней любовью ее старшая «сестренка» Ирма Яунзем. Москва, 19.1У.1969 года». Их переписка закончилась со смертью выдающейся советской артистки, письма которой к Е.А. я переслал потом в Москву для передачи в Центральный музей народного творчества.
После взятия Перекопа и отхода белых армий из России, А.П. остается в Крыму. Но в 1923 году перебирается в Ленинград, где «состоит на профсоюзной работе» - руководит самодеятельными театральными кружками, а в 1937 году находит работу и в профессиональном театре.
Играл отец Е.А. и в кино – благообразная внешность, умное лицо, роскошная седина, красивый голос. Однако, к сожалению, доставались ему лишь «безгласные» немые роли второго и третьего плана. Вот он член ученого совета в фильме «Хирург Пирогов». Или сомневающийся профессор, присутствующий при демонстрации эффекта радио А.С. Поповым в знаковом одноименном советском фильме. И многие другие подобные кинематографические «шедевры» послевоенного Ленфильма покорялись этому, в самом деле, талантливому человеку.
Война, начавшаяся через две недели, застанет Александра Петровича Гутмана с женой и дочкой, на счастье, не в Белоруссии, а в Тверской (Калининской) области – на озере Селигер. И, следуя мудрому совету Л.А., в Ленинград в блокаду они уже не вернутся.
Семейство Гутман отправилось сначала в Москву, потом и дальше на восток - в город Саранск, где с первых дней войны создавались крупные тыловые госпитали. Направление от Союза работников искусств («Рабиса»), полученное в столице, предполагало его «участие в организации республиканских театральных бригад и проведении концертов для раненых красноармейцев».
А.П., волей случая оказавшийся в тогда заштатном провинциальном Саранске, даром времени там не терял, активно включившись в культурно-просветительскую жизнь города. Он не только организует концерты в госпиталях, но и создает свой собственный театральный кружок. Его саранской ученицей, получившей у А.П. первые уроки мастерства, стала замечательная артистка театра и кино Ирина Карташева. Многие годы работала она потом в театре им. Моссовета, исполняя ведущие роли классического репертуара в паре с великим актером народным артистом СССР трижды лауреатом Сталинской премии Николаем Дмитриевичем Мордвиновым. Я видел их в «Короле Лире». Он Лир, она - Корделия. Слушал и восхищался несравненным ее голосом, поставленным когда-то ей в самодеятельном кружке Александром Петровичем.
В 1960-е годы Ирина Карташева озвучивала многие главные роли в лучших французских и итальянских фильмах. Обволакивающе «вкусно» произносила она по-русски текст за своенравную Джину Лолобриджиду, обворожительную Софи Лорен и за красавицу Сильвану Пампанини. Увы, после переозвучивания эти фильмы очень многое потеряли от изначальной своей прелести, достигавшейся, в том числе, и за счет привлечения к дублированию лучших отечественных актеров.
Возвратившись после войны в Ленинград, А.П. продолжает свою воспитательную работу с детьми, руководит театральными кружками при Дворце пионеров, Доме работников искусств и где-то еще за далекой рабочей Нарвской заставой. Привлекал он к этой деятельности и меня: с помощью диапроектора я показывал новому поколению ленинградских школьников, стремившихся «попасть в артисты», виды европейских городов, репродукции картин из лучших музеев мира. Помню, как всякий раз перед началом лекции он непременно по-старомодному чинно и важно представлял меня детям, называл «коллегой» и своим помощником, всячески показывая юной аудитории, что относится ко мне, как равному. Замечательный был человек!
Расскажу и о совсем необычном виде артистической активности А.П. и о его инициативности. Как-то долго не было у него работы. И он придумал оригинальный «общественно полезный» выход из создавшегося положения.
После войны в Ленинграде сильно возросло движение транспорта. Дети же, возвращавшиеся из эвакуации, отвыкли от большого города, и поэтому резко увеличилось число случаев их гибели под колесами машин и трамваев. В особенности много погибало младших школьников. А.П. «откликнулся» на эту проблему и написал письмо в ГАИ с предложением давать детям «театральные» уроки правил дорожного движения и поведения на улице. В итоге был даже сделан фильм с его участием, им же самим озвученный. Наконец-то появилась у него роль первого плана и даже - с голосом!
Помню кадры, где он с незабываемыми «мхатовскими» интонациями объясняет детям, как переходить улицу, а затем с флажком в руке руководит организованным движением по перекрестку.
И еще один пример случайных встреч и совпадений, который демонстрирует сердечность и теплоту отношений в семье Мелентьевых. Мы с мамой, чудом спасшиеся из Бобруйска от немцев (об этом расскажу я далее), по совету Льва Александровича тоже не стали возвращаться в Ленинград, а направились на родину моей мамы на Волгу. В пятидесяти километрах от Саранска в селе Начиналы Чамзинского района оставался дом, брошенный мамиными родными, бежавшими в начале 1930-х годов от коллективизации в Карелию.
Так что, по воле судьбы и прихоти случая оказались мы в одних и тех же краях – «почти что по соседству» с семьей Гутман-Мелентьевых. Пятьдесят километров для нас, «пробежавших» тысячу верст от немцев, были не расстоянием! И вот зимой 1942 года, узнав каким-то образом, что «наши» находятся в Саранске, мама оставляет меня на соседей и отправляется из родного села в столицу Мордовии. Пешком!
Немцев к этому моменту времени от Москвы уже немного отогнали, но, как дальше будут развиваться события, и смогут ли они вообще когда-нибудь еще увидеться, было неведомо. Точного адреса мама не знала, но уж очень хотелось ей, хоть на «пару» часов, встретиться с дорогой Минной Анисимовной, Александром Петровичем, с Катюшей, так любивших семью брата Л.А. И, вы знаете, - она нашла их! Как говорят в России, язык доводит и до Киева. Встретились они прямо на концерте, проводившемся А.П. в центральном госпитале, расположившемся в главной гостинице города. Много было радости и у них, и у раненых бойцов, удивлявшихся сначала, почему так крепко обнимались и целовались их любимые «артисты».
А потом всю жизнь вспоминали они ту встречу, и тот мамин стокилометровый «марш-бросок» по шпалам до Саранска и обратно. А еще и том, как умная голова Л.А. не позволила напрасно увеличить число жертв блокады, не позволив нам вернуться в Ленинград.
В нынешнее время это уже трудно себе представить, но летом 41-го года не только «простые», но и думающие интеллигентные люди, если даже и предполагали возможность новой войны с Германией, то абсолютно не были готовы к такому ходу и развитию событий, а уж к ленинградской блокаде тем более. На фоне предвоенного «шапкозакидательства» и бахвальства руководства страны никто не ожидал таких страшных провалов в начальный период «военной кампании». Да и «кампанией» назвать ее можно было лишь весьма условно, поскольку для русских это было даже не войной, не планомерным, как у Кутузова, отступлением на подготовленные заранее позиции. В общем и целом, несмотря на героизм и мужество простых людей, это был бессистемный откат советских войск под натиском могучего врага, навязывавшего нам свою волю, с котлами и миллионными потерями.
И еще напомню читателю, что никогда ничего подобного не было во всей русской истории. Ни в ордынский период, ни при Наполеоне, когда он со своей действительно Великой Армией шел на Москву. Но он именно шел! Он продвигался вперед по направлению к древней столице России все же достаточно локально и медленно.
Не было такого и в 1-ю Мировую войну, печальный опыт которой был на памяти у большинства людей, проживавших в середине 1941-го года в СССР. Да, и тогда «под немца» попали тоже гигантские наши территории. Но события в те еще царские времена, не разворачивались столь стремительно и с явным вектором на проигрыш войны Россией. Были тогда и очень крупные успехи наших войск, и не только в начальный период.
Поэтому желание «пересидеть», остаться дома имелось у русских людей летом 1941-го года. И это приводило к дополнительным жертвам. Позже я расскажу и о нашем нежелании ехать из Бобруйска, оказавшегося на самом острие уже первых немецких атак. А в глубинных частях России подобных примеров найдется тысячи.
Никто не ожидал в стране и в мире, что Гитлер так страшно «развернет» славянский и еврейский «вопросы». Поэтому жертвы среди евреев, населявших западные области, присоединенные к России во времена разделов Польши, были гигантскими.
Столь же потрясают и колоссальные потери среди белорусов, составной и очень любимой мною части русского народа, о которых теперь, правда, никто не вспоминает. После окончания войны Ирина Александровна, сестра Л.А., не стала возвращаться в Ленинград, а, опять же по совету Л.А., уехала на запад - в Белоруссию, где получила должность главного архитектора Витебска, а потом работала и в столице республики Минске. На лето она брала меня к себе, так что я видел и помню до сих пор страшные сожженные коробки - остовы жилых домов и фабричных зданий, подпертых бревнами, чтобы не они обвались при тряске от проезжавшего автомобиля или телеги. Помню и страшные рассказы белорусов, о том, что там у них творилось в годы оккупации.
Так что не будь у нас в семье такого человека, как Л.А., вполне могли бы и мы, и семья Гутманов, отправиться к себе обратно в Ленинград, куда нас после ужасов Бобруйска и Быхова, конечно же, тянуло. И разделить там участь миллионов ленинградцев, лежащих без креста и без могилы. Кого-то зачастую, увы, формально чтут, кого-то вспоминают в дни «праздников», но сколько их, подобно художнику Дмитрию Антоновичу Лищенко, лежат неведомые, оплаканные только своими близкими и родными.
В связи с проблемой «уезжать – не уезжать» из «пред-блокады» Ленинграда расскажу и о судьбе уже упоминавшейся здесь мной выше Тамары Григорьевны Коваль, давнем друге всех и каждого у нас в семье. Так вот, на счастье, и ей попался тоже умный человек, не просто подсказавший, но буквально силой заставивший ее уехать из города до начала блокады.
Закончив институт 25 июня 1941 года, в один и тот же день, и почти в один и тот же час с И.А., по собственному легкомыслию (ее слова!), она решила не уезжать из Ленинграда до осени. Родом она из Оренбурга, и поэтому ее распределили в восточные края - в столицу Таджикистана Душанбе - тогдашний Сталинабад. Но до начала работы еще оставалось немало времени. И она решает на прощание побыть, наконец, свободной, «собраться с мыслями» и отдохнуть после диплома перед предстоящей дальней дорогой.
Добавлю к этому и свой комментарий. Штрих в рассказе Т.Г. о распределении, представляется мне, крайне важным. Задумаемся! Идет первая неделя войны, фронта, в классическом его определении, не было и в помине. Полная неопределенность с будущим, а молодому специалисту, не в пример нынешним временам, дают государственное распределение на работу. Не посылают, как нынче, молодого дипломированного архитектора торговать в метро на переходе трусиками, а отправляют на «восток» - на развитие и обустройство своей страны! И это лишь дополнительное подтверждение тому, что говорили Л.А. и мой отец. Несмотря на хаос, творящийся вокруг, сдаваться русские не собирались. И были люди, которые, вопреки надеждам тех, кто схоронил уже Россию, надеялись и на эту девочку, пусть еще и не очень и смышленую, и на ее вклад в будущую победу!
Так вот, на счастье, и Т.Г. попался разумный, и при том совсем нестарый человек – ее однокурсник по архитектурному институту. Наступило уже 10 июля 1941-го (заметьте, Т.Г. помнит предельно точно все числа), а она и не собирается никуда уезжать из Ленинграда! Мой очерк воспоминаний - сплошные встречи и совпадения в пространстве и времени. Поверьте, но так было, и это правда. Моня - мальчик из одной с ней группы, которого, как и других ребят, уже забрали в армию, случайно узнает, что Т.Г. все еще в городе. У него отец врач, работает на Московском вокзале. «Приходи завтра в такое-то время с вещами на перрон, ближайший к Лиговке. Найдешь носильщика, «бляха» номер такая-то, он тебя посадит в вагон!». Собирать ей было особенно и нечего - прописка в общежитие, поэтому так часто и жила у нас на улице Петра Лаврова. Так что на вокзал пришла почти пустая лишь с маленькою сумкой. Обещанного носильщика искала, но не нашла. Однако этим, опять же, по молодости и глупости (ее слова!), особенно и не расстроилась.
А дальше - сцена для художественного фильма. Уже решив вернуться к себе в домой общежитие, она наклоняется, чтобы поправить развязавшийся шнурок на туфлях, и что-то долго с ним копается. И в это время слышит приближающийся топот сапог множества людей, идущих вразнобой не в ногу по брусчатке мостовой Лиговского проспекта.
Недружный громкий топот – явно, не солдаты! Поднимает голову, и слышит крик: «Томка!».
Уже поздно, но в июле белые ночи еще продолжаются. И она понимает, что это их «мальчики» (определение не мое, - так называет до сих пор Т.Г. своих сокурсников!). Они уже обуты в сапоги, но еще в разномастной домашней «своей» одежде в толпе таких же новобранцев, наголо обстриженных, нестройными рядами шагающих на войну бить фашистов!
Там же и ее Монька, который, как она потом узнает из его писем с фронта, беззаветно ее любивший все долгие студенческие годы, но упорно молчавший, стесняясь признаться в своих чувствах. Понимая, что Т.Г. вот-вот отправится домой, он умудряется покинуть строй. Свои ребята помогли ему – прикрыли от глаз начальников. Подбегает к ней, хватает ее котомку и тащит куда-то в здание вокзала. Завидев еще издали ненайденного ей носильщика, указывает на него рукой и со словами «Отдай ему все деньги!» убегает. И даже не поцеловались – времена были не те.
Носильщик сердится: «Где пропадала?». Но вещи все же забирает, и они мчатся со всех ног в том направлении, где должен находиться «ее» поезд. Но это еще не конец истории и всем военным вокзальным случайностям. Они бегут, торопятся, казалось, ничего вокруг не замечая. Теперь в голове у нее уже другая мысль – успеть бы! Но снова чудо встреч и совпадений. В толпе они вдруг натыкаются на студентку из их же с И.А. группы, которая держит за руку мальчика лет пяти-шести. Девушка была постарше, чем они с И.А., и поэтому дружили они мало.
- «Я без вещей, а деньги заплатила, - говорит Т.Г. носильщику. – Давайте возьмем и их! Чемоданы у нее тяжелые!». И, знаете, согласился носильщик, бляха такой-то номер. Взял и тех двоих, впихнув всех вместе заодно в отходящий «скотский» вагон (такое имя дает Т.Г. теплушкам, то есть вагонам с печкой и настежь открытыми дверями). Состав, как будто только и поджидал их. Вскочили – и тут же сразу тронулись.
Везли их, вроде, на Москву, а утром просыпаются – Дно! Большая узловая станция, лежащая к юго-западу от Ленинграда! И дальше поезд не идет. Спускаются на землю с вещами и с ребенком - Юркой, оказалось, звали мальчишку. До сих пор помнит его имя 92-х летняя Т.Г.!
Что делать! И опять абсолютно невероятная случайность, ее потрясшая на всю оставшуюся жизнь – их новая встреча с Монькой, и с ее ребятами из группы. И теперь действительно уже последняя в их жизни. Всех «мальчиков» убили немцы, и ни один – представьте, ни один из ее группы не вернулся! А с Монькой они переписывались, всю войну писали письма друг другу, и даже собирались пожениться. Казалось, он-то уж везучий, и до Победы непременно доживет. Но не получилось - в феврале 1945-го, за три месяца до окончания войны, убили немцы и ее Моньку. Из архитекторов на той войне готовили саперов, а на той «работе» шансов выжить было не очень много.
А там тогда на станции Дно вдруг выяснилось, что их единственный вагон теплушку по ошибке прицепили к воинскому эшелону, идущему не на Москву, а на фронт – на запад! И, казалось бы, невозможно, уму непостижимо – но это был тот самый состав, состоявший из обычных спальных вагонов мирного времени, в котором на войну везли их «мальчиков». И опять им помогает случай. Могли, ведь, оказавшись снова так близко, и не заметить друг друга. На счастье в плацкартных вагонах, в отличие от теплушек, есть окна. Много окон. И кто-то из ребят, случайно выглянув в окошко, увидел вдруг стоящих в растерянности на железнодорожных путях Т.Г. и молодую мать с Юркою в придачу.
«Идите к нам», - звали их Монька и ребята из группы. С восторгом и удивлением, высовываясь почти по пояс из окон, разглядывали они сверху вниз непонятно, как здесь оказавшуюся, как с неба на них свалившуюся эту троицу, принимая их появление как добрый и хороший знак.
Но к ребятам в вагоны было нельзя! Теперь они уже по настоящему солдаты, и двигаться им предстояло прямо на запад навстречу немцам! На счастье, рядом оказался еще один вагон, пришедший в ту же ночь из Латвии, в котором эвакуировался даугавпилский райисполком. И не теплушка, а предназначенный для начальства солидный купированный вагон, поджидавший «персонального» паровоза. Пожалели латыши мальчишку – упросил, уговорил их Монька – забрали Юрку, а вместе с ним и их двоих -совсем тогда еще девчонок.
Прощаясь навсегда на станции с названием Дно, созвучным тогдашним их настроениям, тоже не целовались. Только и успела она, что крикнуть ему вслед в отчаянии: «Что же дальше?». – «Что говоришь ты, дурочка!», – были последние его слова, услышанные ею, и до сих пор не позабытые.
О смерти Мони она узнала от его отца. В эвакуации по военным меркам они были почти что рядом: Т.Г. - в Оренбурге, а Монина семья в северном Казахстане - в Ишиме. «Между нами ничего не было! Повторяю, ни разу даже не поцеловались. А Монины родители все звали меня к себе настойчиво, чтобы стала им дочерью», - вспоминает Т.Г.
Такой была и, слава Богу, есть наша Томка – лучшая подруга И.А., которую любили все наши - и мой отец, и Лев Александрович - Левушка, как ласково называет она его, рассказывая мне по телефону о тех, ушедших временах и людях. Вспоминает, как любила ее Ксения Павловна, как вечерами не отпускала в «общагу», как ночевали «валетом» на одном (моем потом!) диване. «Помещались, - смеется, - обе были худющие!».
Но вскоре мама Мони умерла. «Не захотела жить без Мони!», - написал ей его отец. Не поняла она. Может быть, даже и не фигурально, а и, вправду, из-за смерти сына наложила на себя руки. После войны, по просьбе Т.Г., мы заходили в их ленинградскую квартиру на улице Пушкарской. Отец Монин был жив и на память о погибшем сыне передал для Тамары Григорьевны его рисунки. И не какие-то там цветочки - василечки, а архитектурные пейзажи – город будущего, который мечтал построить когда-нибудь в России Томкин мальчик Монька. Они и теперь висят у нее в Воронеже в красивой рамке над письменным столом, за которым она трудилась над архитектурными проектами, принося работу на дом. Времени на послевоенное обустройство родной страны их поколению вечно не хватало.
Да, Моня был еврей, как и семейство Гутман, как и второй муж Ирины Александровны - Наум Маркович Ицков, сын кузнеца из еврейского местечка Климовичского района под Могилевом, один из немногих солдат, чудом выбравшихся в конце июня 1941-го года из Белостокского «котла». Одиннадцать осколков оказалось у него в теле – что-то вынули сразу в прифронтовом госпитале, но несколько так и осталось на всю жизнь. Он был большой грузный и очень добрый. Любил и пригревал нас послевоенных малолеток, потом моих детей тоже любил и баловал. А в моем детстве – сидим мы с ним, бывало, на диване прижмемся, ластимся к нему. Он щекочет нас с братом Сашей – их сыном с И.А., а мы гладим его щеку, шершавую и теплую. Иногда давал потрогать и свои боевые ранения и шрамы. Мне - пацану было и интересно, и даже немножко жутковато страшно – щупаешь, и чувствуешь, как где-то глубоко там под кожей перекатываются кусочки металла. И, вроде бы, они здесь рядом, но вытащить врачи боялись - мог умереть при операции от сердца. Как он любил Льва Александровича, и как он тоже нему относился по-родственному с большим уважением. Светлый был человек тот мой еврейский дядька – строитель – созидатель своей родной страны. После войны половину черноземной полосы - от Курска и Орла до Сталинграда обустроил элеваторами. Еду теперь в Воронеж присматривать за могилой К.П., гляжу в окно на разбросанные по тамошним степям эти гигантские циклопические сооружения и конструкции, вспоминаю возводившего их дядю моего Наума.
Или школьная подруга И.А., ну, и естественно, что и старших братьев - Л.А., и моего отца – Бронислава Яковлевна Селектор. Всю блокаду пробыла она в Ленинграде, и выжила лишь потому, что в театральной бригаде их подкармливали солдаты и какую-то малость из продуктов давали иногда и с собой - для сына Гриши.
С детства мы называли совсем чужую, казалось бы, нам женщину «тетей Броней». Она же, со своей стороны, «величала» Л.А., с которым дружили они со школьной скамьи, то Левушкой, а то уж и совсем запросто - Левкой. А я для нее так до седых волос Вовкой и остался. Но не в этом состояла суть наших отношений.
Веселая была, шутить умела по-умному, иногда даже и «по-хулигански». Анекдотчица, еврейские анекдоты рассказывала сверх-мастерски. Обычно я тут же забываю все это, но из ее «репертуара» что-то и по сию пору помнится. Смеюсь, бывает, и ее вспоминаю, если в жизни натыкаюсь на схожие сюжеты.
Но и дело свое умела она делать хорошо красиво. Незабываемо! «Классно» - есть такое словечко нынче у моих студентов. Прихожу теперь в Большой зал филармонии имени Д.Д. Шостаковича, и еще до концерта вспоминаю «тетю Броню». Вижу, будто сейчас, как величаво и неспешно в длинном вечернем платье выходит она на просцениум. Как на мгновение замирает, давая всем время, чтобы сосредоточиться и забыть о мирской суете. И только после этого с мудрой своей улыбкой (поверьте, бывают в России у наших женщин и такие улыбки) с особыми качаловскими подъемами и паузами, выдерживаемыми в нужном месте, объявляет имя автора, название пьесы и содержание ее частей. Голос у нее был какой-то особенный - чуть глуховатый и, как бы, слегка надтреснутый от постоянного курения. И вроде и не громко говорит она, но в зале такая тишина и такая акустика, что ее отлично слышно и на хорах и в самых последних рядах партера. Слышим и видим ее и мы с моими друзьями студентами, а потом с молодыми инженерами, придя в филармонию прямо с работы, купив за 30 копеек «стоячий» входной билет.
Казалось бы, скромна и мимолетна ее работа. Чуть более минуты, десятки секунд длится она! Но нет - большое это дело уметь настраивать людей на праздник, на предстоящее им таинство погружения в музыку в исполнении Ленинградского симфонического оркестра под сдержанным вдохновенным управлением Евгения Мравинского или, на контрасте - взрывного и динамичного Натана Рахлина.
Так что свою часть общей «коллективной» филармонической работы Бронислава Яковлевна Селектор исполняла тоже по-своему виртуозно. И пусть я знал и небольшой секрет нашей «тети Брони», что это концертное платье у нее единственное и туфли, как у Золушки, тоже одни. Но она так по-королевски держится, что в зале никто и никогда не смог об этом даже подумать, если вдруг на какое-то мгновение и отвлекся бы от музыки.
Так что жили мы тогда все вместе, дружили, ходили в гости на чашку чая и рюмку водки, влюблялись и женились, не заглядывая в графу национальность в паспорте.
Я не хотел писать об этом, но так уж получилось, что текст сам подвел на разговор об этой теме, больной в России, как и повсюду в мире. В семье у нас без исключения все мы были тесно связаны с евреями и по работе и, что называется, и в «личной жизни». И это обстоятельство дает мне основание, надеюсь, избежать упреков в антисемитизме, как, впрочем, и с «противоположной» стороны. Была у нас в Обсерватории одна влиятельная «дама» (кстати, весьма квалифицированный климатолог), которая «отвечала» за «идеологию» и возглавляя в партбюро так называемый «идеологический сектор». Так вот она, как мне передавали, говорила: «В.В. не еврей, но он сочувствующий. И надо много раз подумать, прежде чем пускать его загранкомандировку в экспедицию!». А я, как раз в то время собирался в рейс в Индийский океан, где проводились международные исследования муссонной циркуляции. Туда бы эту даму на «взрыв муссона», есть такой почти военный термин в гидрометеорологии. Тогда для торжества науки мы простояли три недели в «точке» непосредственно под спутником, и наш заякоренный «намертво» корабль НИСП «Волна» вел там себя подобно взбесившейся и разъяренной лошади. Поставленный пассивно по воле капитана бортом к гигантским набегающим волнам, он то проваливался в бездну, а то взбирался потихоньку, не спеша, бочком на каждую очередную вздыбленную океаническую гору. Шторм, качка день за днем неделями без перерыва, непередаваемые ощущения «то голова, то ноги», когда и палуба и все вокруг тебя буквально ходит ходуном! Приборы, принайтованные, казалось бы, железно, намертво к столам, к стенам лаборатории, и те срывались иногда со «штатных» своих мест. В каюте у меня сорвало холодильник! Ели мы на мокрых скатертях, и их смачивали специально, чтобы чашки и тарелки не уползали и не валились на пол. Суп нам готовили не каждый день, а если повара справлялись у себя на кухне с его «готовкой». А если все же подавали нам его, то приходилось поддерживать левой рукой тарелку, чтобы «компенсировать» уклоны корабля при качке. Спать было невозможно – как будто ты расположился не на «плоскости», а на пустой огромной бочке! При каждом ударе волн и крене судна на борт, кровать выскальзывает из-под тебя, и ты встаешь ногами на ее спинку. А сразу после этого – «обратный ход». Я не преувеличиваю – испытываешь чувство полета в невесомости, как это не однажды бывало у меня на самолете Ил-18 ГГО, в котором нам приходилось падать, но, слава Богу, все обошлось у нас удачно. Но, наконец, наш белый «пароход» все же выравнивается. Мы спасены, мы не погибли, но это не конец телесным испытаниям. Ибо в своей кровати ты оказываешься уже в противофазе - стоящим на г о л о в е! Предельный крен у нас был 38 градусов, и мы почти лежали на боку. И я находился в это время в радиорубке на связи с ГГО. Незабываемые воспоминания, поверьте!
На наше счастье (но, увы, на «неудачу отечественной науки») «взрыв» тропической атмосферы в июне 1979 года задержался. И время пребывания нашего в штормах в кипящем океане пришлось слегка урезать, сократить, ибо по соглашению с Цейлоном нельзя было переменить заранее спланированное время захода НИСП «Волна» к ним на остров в Коломбо за водой и продуктами (почти, как в приключенческих романах у Жуля Верна).
Но ничего, меня «пустили» все-таки тогда в тот рейс. Были в обсерватории и разумные люди. А на дураков, что нам сердиться. И где сейчас эта дама? Допускаю, что, может быть, в Израиле или в Америке. Там, говорят, полно теперь перековавшихся активистов, «слинявших» отсюда по «экономическим причинам». И такие вот были и есть у нас «дела». Не то, что ныне, когда в метро на эскалаторе видишь совсем иные выраженья лиц.
Мой лучший школьный друг Толя Ш. теперь в Германии - уехал в «перестройку». Зачем, скажите, инженеру программисту комфорт уютного «самопровозглашенного гетто» с микроподачками по «социалу» за холокост? И где обычный «среднестатистический» немец много раз подумает, прежде чем пригласит его в свой дом так же запросто, как к этому привык он здесь у нас в России.
Или мой ведущий бортинженер Игорь П. Мы славно с ним потрудились на переданном в полное мое научное «распоряжение» самолете-лаборатории Ил-18 ГГО. Работай, трудись – были бы только оригинальные идеи. Помню восторг наш, когда на высоте 50 метров (не преувеличиваю, то есть, виноват, не преуменьшаю!) «закладывали» мы 100 километровой протяженности «площадки» над кипящим от пены и брызг штормовым Тихим океаном, чтобы измерить его излучение в СВЧ микроволновом диапазоне. И как часами не выходили на связь, поскольку из-за малости высот полета радиосигналы к нам и от нас не проходили. И соответствующие «компетентные» контролирующие органы уже «на полном серьезе» сомневались - толи погибли, толи «смотались» уже на запад в Америку, для кого-то, быть может, тогда и желанную. Виноват, уточняю. От Курильской гряды на запад это получается, как бы, на восток!
Нет, не дождетесь, господа-товарищи, нечего там было делать «труженикам моря», желавшим разобраться с потоками собственного радиоизлучения штормовой Пацифики. И надо признаться, разобрались. И теперь повсюду в мире, кроме нас «бедных», сидящих на жирных нефтяных деньгах, летают спутники, которые строят для самых разнообразных потребителей СВЧ карты волнения моря и состояния льда! «Нет денег!», - говорят нам. «Нет желания и воли!», - отвечаю я!
И все, конечно, позабыли (такова специфика научного труда), что это мы с моим отважным еврейским другом и коллегой были пионерами в том научном «предприятии», вытворяя сложнейшие кульбиты над дрейфующими ледяными полями в районе Берингова пролива. Все моря СССР - от Белого и Баренцева и до Охотского и Японского были исследованы нами. По всему полному периметру облетали мы тогда страну, измеряя с борта самолета в подспутниковых точках свойства морских акваторий и «разнотипных» внутриконтинентальных водоемов.
Честь и слава летчикам-испытателям, штурманам и инженерам-исследователям из «фирмы» Валентины Гризодубовой высокоточно и надежно исполнившим эту ответственную и тяжелую работу. Были среди них высококлассные ассы, прошедшие Великую Отечественную войну, Герой Советского Союза В.Г. Павлов и заслуженный военный лётчик СССР Г.К Бычковский, реализовавшие на практике кому-то казавшиеся полубезумными наши научные идеи. А Игорь мой теперь в тепле, в уюте той самой Америки. Ругается, правда, отчаянно: «Дураки – то вона!», и поражается, какая там скукотища. Одна лишь нынче у него отрада – рыбалка.
Или мой Коля Канторович - простите, Николай Владимирович. Он теперь в Израиле! Еврей и мотогонщик, казалось бы, несоединимые понятия, но есть и такой друг у меня. Отчаянная головушка! Все звал к себе напарником в «колясочники». «Ты сможешь!», - говорил он. «Спасибо за твое высокое спортивное доверие, - отвечал я. Но, видишь ли, я и сам уже катаю собственную колясочку. С ребеночком! Огорчился, но простил, поскольку груз в моей коляске был очень ценным – старшим моим сыном Александром Владимировичем Мелентьевым.
Кстати, есть, вернее, был и еще один тут парадокс. Как ни странно, но почему-то этот опасный и увлекательный вид спорта культивировали у нас в стране в основном спокойные и флегматичные эстонцы. Была у них под Таллином и трасса знаменитая на весь Союз своими запредельными крутыми виражами. Увы, еще один из негативных последствий от развала СССР – с выходом из его состава главной «закоперщицы» этих сумасшедших состязаний, теперь в России их, увы, уже не стало.
Или Витя Л., товарищ мой и коллега по работе с ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского - он сейчас в Америке. Отец его, как и наш Лекочка Быков, тоже студентом пропал без вести - под Пулковом, на той самой горе, где я стою теперь часами в автомобильной «пробке» и вспоминаю войну, моего Витю - ныне «стопроцентного» американца и его погибшего отца!
А мой учитель – физик-теоретик Кусиель Соломонович Шифрин - КаЭс, у которого учился я в аспирантуре, начинавший работу с такими корифеями, как Иоффе, Ландау и Френкель. Он-то и «придумал» тот самый метод пассивной СВЧ радиометрии – радиотеплолокации, который сейчас является основой самых главных измерительных приборов спутниковой океанографии. Это был действительно большой ученый. Кстати, они были неплохо знакомы с Л.А. - я написал об этом в своем разделе книги «К.С. Шифрин – ученый, учитель, человек», вышедшей в 2008 году в городе Харькове. Но уже не «на», а «в» Украине. И стоило ли нам «разводиться» из-за подобных мелочных неологизмов, господин Тарас Григорьевич Шевченко?
Профессор К.С. Шифрин, ученый «нобелевского» масштаба, в начале 1990-х уехал в США, так как вдруг тут у нас не стало для него работы. «Принять как еврея!», - такой была резолюция декана физического факультета Ленинградского Госуниверситета, размашисто наискосок начерченная на документах выдающегося физика, получившего «трояк» на приемных экзаменах по этой самой физике. Наверное, волновался. Как ни странно, он и в зрелом возрасте не мастер был красно говорить. Он все больше по части анализа и синтеза! Кстати, КаЭс постоянно подталкивал меня к написанию воспоминаний о том, как славно мы трудились в обсерватории имени А.И. Воейкова в те годы, которые для нас были временем торжества отечественной науки, а для кого-то, жаль мне их, оказались, увы, «застойными».
Так что была, оказывается, и такая оригинальная официальная формулировка для поступления в институт по конкурсу в далекие от нас, наполненные коммунистическими противоречиями сталинские 1930-е годы. Забыли от широты души не только мы, но и они. Так стоило так сильно обижаться на дураков и соглашаться, когда позвали в Штаты. А там, в Америке в начале 1990-х, не в пример любимой моей России, прекрасно знали, что здесь «напридумывал» КаЭс. В НАСА на это дело учет был поставлен строгий. И все Труды ГГО им. А.И. Воейкова по аэрокосмической тематике собирались там в Центре имени Годдарда в Энн Арборе, а самые выдающиеся работы переводились и издавались в Израиле и в США. «Благо», что, по «комчванству» и по глупости - «дураки-то – вона!», СССР не подписал международную конвенцию по авторскому праву. Теперь КаЭс наш в Орегоне. Жив, здоров, но в полнейшем одиночестве, без близких и без родных и главное - без учеников в доме для престарелых. Имеет там звание «сеньора», получает заботливый уход и кучу благ по части обустройства «быта».
К тому ли мы стремились и о том ли мечтали, жарко дискутируя наши научные проблемы на имевших всесоюзную известность семинарах профессора К.С. Шифрина в Главной геофизической обсерватории? А потом, чтобы проверить состоятельность тех или иных гипотез и предположений, рисковали жизнями на бреющем полете над Тихим и Ледовитым океаном, или над Атлантикой в Глобальном Тропическом эксперименте (АТЭП). И стоит ли выстраивать так жизнь, чтобы, распрощавшись с «удобствами во дворе», заиметь дом с теплым туалетом и миску супа, пусть даже и очень вкусного.
Короче, треть народа разбежалась от «созидателей Европы от Атлантики до Урала», жалких троечников, алчных приватизаторов российского национального богатства, экспериментировавших над своим народом сначала «терапией шока», а потом и «нефте-газом» пытающихся проверить наше долготерпение.
Помню, как все это начиналось, и как особо «слабонервные» поехали. И как старинная моя приятельница Надя Рашкес, врач, вдруг сказала, что эмигрирует с сыном в Германию. И лишь тогда я осознал, что никогда не вслушивался в ее фамилию. Мало ли в России красивых девушек с причудливыми именами и необычными фамилиями.
Так что антисемитизма ни у нас грешных, ни у предшествующих генераций русских людей не было в помине.
Для подтверждения приведу выдержку из воспоминаний Ольги Николаевны Быковой (Мануйловой), племянницы академика Михаила Степановича Воронина, воспитывавшейся в его доме и ставшей потом женою доктора Евгения Боткина, расстрелянного вместе с царской семьей в Екатеринбурге. Они приводятся в книге В.А. Парнес «Академик М.С. Воронин», вышедшей в Москве в издательстве «Наука» в 1976 году.
«Однажды в связи с предстоящими выборами в Академию заговорили о кандидатурах будущих академиков. Кто-то сказал, что при всех условиях предпочтение должно отдать русскому ученому. Мнения разделились, завязался спор. «А, на мой взгляд, - дав высказаться всем, твердо сказал академик того еще старинного российского замеса - прадед академика Л.А. Мелентьева. - Это совершенно не имеет значения – русский он, поляк, прибалтийский немец, финн или еврей. Если он как ученый лучше – все права на его стороне».
А то, что случилось не так давно у нас в стране, так это, ведь, тоже была Отечественная война – война за целостность и процветание нашего отечества. Только холодная, без использования огнестрельного оружия, в которой российский еврейский народ очень «по-умному» был использован в качестве разменной карты для развала вначале СССР, а потом и России.
Как не было у нас в стране и «анти-чукчизма» – были «просто», придуманные евреями, смешные анекдоты про наивного и доверчивого чукчу. Вот уж скажу вам, дорогой читатель, какой же это трогательный и наблюдательный народ, живущий в мире и разумном единении с природой. Только, когда начал исследования по тихоокеанскому моржу, понял, какие это потрясающие люди. Русский язык, речь у ихней - чукотской интеллигенции, как у филологов - выпускников Ленинградского университета времен «имени А.А. Жданова». А какие это лирики! Какое сочувствие к животным, к Берингову морю, к людям - независимо от цвета их кожи и глаз!
Да, были у нас Сталин и Берия, но не было анти-грузизма или анти-армянизма, если даже опираться в своих умопостроениях и выводах на анекдоты про «армянское радио». Помню, уже больше месяца работаю в Норвегии в Бергене. Работы много, тружусь, как проклятый. И интересно, да и заняться другим там нечем. Красиво, да! Природа, море, фиорды, горы, домики пристойные и аккуратные – золотые клетки! Люди с бесцветными дежурными улыбками - тоска зеленая смертельная.
И вот однажды, включаю радио, и сквозь шум и треск радиопомех слышу - Арам Хачатурян с его вальсом к лермонтовскому «Маскараду». Играет московский академический филармонический оркестр под управлением Владимира Ивановича Федосеева. Я прямо захлебнулся от восторга и благодарности к армянину, создавшему эту удивительную музыку. Написать ее мог только действительно великий человек, понявший русскую мятущуюся душу, проникнувший в сердце гениального поэта-сибиряка! А мои друзья и коллеги по работе Наталья Егишевна Тер-Маркарянц, Гурген Абелович Иванян и многие другие выдающиеся люди из Армении большого сердца и ума, имевшие за плечами тысячелетнюю культуру своего народа - но это уже отдельный разговор, и песнь моя о них будет особая - высокая.
Русские умеют и посмеяться над собой. Чего стоят одни анекдоты про «новых русских» - осмеяны все мыслимые и немыслимые пороки русской нации, вылезшие нынче наружу. Или вспомним десятки и сотни ситуаций: собрались немец, американец, француз, еврей и русский! Все любят жен, любовниц, и все по-разному, а еврей большего всего на свете любит маму. Какое, однако, удивительно точное наблюдение, почти, как у моих чукчей на охоте за тихоокеанским моржом, серым китом или тюленем «лахтаком», когда кончаются запасы провианта и ошибаться уже нельзя!
Так что «последний караван» уходил тогда не на Колыму и Магадан. За свободу путешествовать по миру миллионы наших людей оказались раскиданными по белу свету. Кто соберет их, кто вернет теперь их к себе домой – на р о д и н у? И я знаю - многие хотели бы вернуться – рассказывают, как холодно и чуждо им там среди «афро-американцев» или палестинцев, среди которых, соответственно, в США и на Ближнем Востоке у меня тоже есть прекрасные друзья и товарищи, высокообразованные и высокоинтеллектуальные люди.
Но вернуться обратно как-то боязно и даже страшно. Ибо, «наши» родные «власть предержащие» либо не знают, либо напрочь забыли о главном постулате великого экономиста Генри Томаса Бокля, всю свою жизнь посвятившего писанию одной единственной книги - «Истории цивилизации в Англии» и пришедшего к замечательному выводу, справедливому для всех эпох и всех народов, что «все виды рабства проистекают из экономических условий и унизительно низкой заработной платы»!
Да, были у нас и проблемы, взаимные претензии, обиды. Были и различия в менталитете, безусловно! Было много наций с самыми различными обычаями, устоями, привычками. Да, бывало - мы мелочились, ссорились. Но вместе мы прекрасно дополняли друг друга. И были единой и могучей силой, но уважали нас в мире, не верьте провокаторам, не только и не столько за нее.
Ну, и последний довод – н е д а р о м в 1941-м году нас не победили фашисты. Тогда мы были вместе, и, я верю, что мы еще будем вместе! «А, может, вернетесь! Зачем вам, голубчик, чужая страна!», - как поется в одной очень душевной современной песне!
И все-таки вновь обратимся к событиям начала Отечественной войны, чтобы вспомнить несколько историй о геройстве обыкновенных русских людей, не обремененных интеллигентской марксистско-ленинской и иной научной философской «премудростью» и которые никогда бы не согласились со столь высоким определением их поведения в момент покидания сотнями тысяч беженцев осаждаемого фашистами Ленинграда. Для них их действия и их поступки в июле-августе 1941 года были естественны и органичны, как дыхание здорового неотягощенного болезнями человека.
Найдутся ли им равные среди молодежи, усердно обрабатываемой профессиональными телевизионными растлителями? Вот в чем вопрос и в чем проблема!
Л.А. знал эти истории, и они волновали его. Во-первых, потому, что места, в которых разворачиваются описываемые события - север Новгородской области и район станции Мга, и люди, их населяющие - потомки новгородцев, были ему хорошо известны еще с окуловского его детства.
Но, есть и еще одно обстоятельство, которое не могло оставить Л.А. к ним равнодушным. Как заметил Чехов: «Если в первом акте пьесы на стене висит ружье, то в финале оно должно непременно выстрелить»! Таким стреляющим предметом в этом рассказе станут охотничьи патроны, которые, как я рассказывал вначале моих воспоминаний, набивались в блокаду в стенах Ленинградского инженерно-экономического института им. В.М. Молотова Львом Александровичем Мелентьевым и его сотрудниками.
Эти истории рассказал мне хороший мой знакомый доктор исторических наук Андрей Ростиславович Д. - профессиональный историк, лауреат Государственной премии СССР, один из ведущих отечественных специалистов по ленинградской блокаде. Истории эти связанные с детскими военными его воспоминаниями А.Р., не вошли в его научные труды и книги. Действующие в них лица различны по своему социальному происхождению и положению в обществе, но есть в них два действительно выдающихся русских национальных героя, по своему благородству и отваге, равные, как мне кажется, лев-толстовскому капитану Тушину. И если уйдет память о них, то новым приходящим поколениям будет труднее понять, почему нельзя было покорить Россию ни в 1941-м году фашистам, ни в 1812 году французам - «бульонным ногам», по определению Александра Николаевича Мелентьева - отца Л.А. Как и никаким другим захватчикам, посягающим на нашу землю, если только вдруг мы сами не сдадимся, как это случилось с нами в недавнем 1991 году.
Мама Андрея Ростиславовича «служила» перед войной костюмершей в Новом театре юного зрителя на Владимирском проспекте (тогда Нахимсона) – то есть в той части ленинградского ТЮЗа, которую в 1935 году «увел» у великого А.А. Брянцева директор и художественный руководитель этого нового театрального образования известный режиссер Борис Вульфович Зон. Труппа располагалась в здании, где нынче играет театр имени Ленсовета. Школьником я видел Брянцева, он приходил к нам в школу, и я запомнил, как он и наш директор Алексей Алексеевич Грищенко, советовали нам с детства приобщаться к искусству театру. Первый – мягко и интеллигентно, а второй – израненный, контуженный, лишь недавно вернувшийся с фронта – по-военному жестко, настойчиво.
Итак - первые числа июня 41-го. Мама А.Р. отправляет сына в пионерский лагерь от ТЮЗа, располагавшийся в низовьях реки Мсты под Новгородом, где его и застает война. Ему 8 лет, но он домашний, вернее театральный ребенок, который вырос при театре. Мама, растившая его одна, как только он, как говорится, «встал на ноги», стала забирать его с собой на спектакли. А.Р. знал всех артистов, но особенно любил Павла Кадочникова, Бориса Блинова (комиссар Фурманов из «Чапаева») и очаровательную Леночку Деливрон, игравшую героинь сказок Пушкина и прекрасных принцесс Евгения Шварца. Потрясенный ее исполнением роли Снежной Королевы, пятилетний А.Р. решительно и однозначно заявил: «Мама, я женюсь на ней!». И после сделанного «предложения», она, ему казалось, играла только для него, завидев сразу издали его со сцены, сидящим в первом же ряду партера. А в антрактах, брала на руки, ласкала и говорила: «Вот мой жених!».
Но наступает июль. Немецкие войска совсем уж где-то рядом, а о детях тюзовских как будто бы забыли. Аэродром, располагавшийся от лагеря поблизости, стал вдруг немецким. Днем и ночью оттуда был слышен характерный, отличный от нашего, гул моторов самолетов, разгоняющихся по полосе. И было видно, как немцы взлетают где-то там за лесом и как потом, пройдя на «бреющем» всю их деревню, резко взмывают вверх.
«Но однажды, - вспоминает А.Р. - Раннее утро. Все мы - и дети, и взрослые собираемся за завтраком. Удобно расположились в ожидании своей порции каши за обеденными столами, сбитыми из простых струганных досок, соединенных в один длинный ряд. И вдруг, сразу же после взлета самолет разворачивается и направляется прямо на лагерь. Резкий свистящий рев моторов бомбардировщика надвигался со стороны «головы» стола, где в это время стояла старшая воспитательница. Что делать! Сидеть или разбегаться? Оцепенели! И видим только глаза нашей учительницы, которая сама самолета не видит, но спиной и всем телом своим ощущает его приближение, чувствуя, что немец летит непосредственно на ей подопечных малолетних детишек. Вся сжалась в комок и в ужасе смотрит на нас - прощается с нами.
И в ту же минуту – нет, в ту же секунду - из крайней избы, стоящей через дорогу от брезентовых палаток нашего пионерского лагеря, выскакивает старик председатель колхоза этой мстинской новгородской деревни. В руках у него ружье, из которого он сходу дуплетом дробью стреляет по приближающемуся самолету. Но разве из допотопной берданки собьешь мессершмит! И все же! Пилоты – их было двое в кабине, и мы их прекрасно видели – заметив стрелка и услышав звук выстрелов, отворачивают свой самолет от лагеря и новых зарядов!».
Мы не знаем дальнейшей судьбы этого человека, но он был герой – настоящий герой - тот старик председатель, сын несгибаемой вечной России, потомок Ивана Сусанина, соль и слава русской земли!
«И знаете, - продолжает рассказ свой А.Р. – Немцы и после этого случая продолжали летать над нашей деревней, но уже с осторожностью и опаской. И каждый раз, едва приближались они к пионерскому лагерю, как наш славный защитник, из своего дробовика отгонял их подальше. А как-то был случай, проходит над нами очередной самолет, и вдруг отбрасывается стеклянный колпак, и летчик в очках и шлеме показывает нам из кабины кулак. Но не стреляет и не бомбит!
Вы спросите, почему? Нет, не из гуманных соображений. «Просто» на тот момент главной их целью были другие объекты. Немцы летали на железнодорожные мосты над Мстою, пытаясь прервать сообщение Петербурга с Москвой через Новгород.
Летали туда регулярно систематически, но все их бомбежки оказывались безрезультатными. Мосты оставались целыми и невредимыми. И как этому радовались все мы – и дети, и преподаватели, да и все в той нашей деревне, которую вскоре оккупирует враг, что не удается врагам разрушить эти грандиозные величественные сооружения. Мостовики, когда-то работавшие на Мсте, соорудили их крепко по-умному, как будто предчувствовали возможность прихода сюда к нам фашистов. Построили их без деревянных настилов, так что бомбы, даже и попадая в сам мост, пролетев между рельсов, не затрагивали его металлическую конструкцию!».
Позволю себе прокомментировать этот рассказ А.Р. и сообщить, что среди замечательных этих мостостроителей был и предок Л.А. – сын бежавшего в 1807 году от французов «нашего» русского немца Ивана Федоровича Штукенберга. Военный инженер-путеец Антон Иванович проводил инженерные исследования именно на этом отрезке Николаевской железной дороги, а потом в 1842 – 49 гг. руководил и самим строительством. А после открытия движения поездов управлял им на участке от Спировской до крупной узловой станции Окуловка. Мир тесен, как не раз уже говорилось, – это, как раз те места, где провел свои детские годы академик Лев Александрович Мелентьев!
Так что Россия, вопреки штампам и ярлыкам, навешенным на нее литераторами «школы критического реализма», и прозванная ими «сонным царством», на самом деле никогда не спала, не дремала.
Наверное, СЭИшникам, да и всем иркутянам будет приятно узнать, что Антон Иванович Штукенберг «набирался» опыта в Восточной Сибири, где уже в 1836 – 40 гг. под его руководством проводились «первые изыскания возможных трасс железнодорожного сообщения в Забайкальских горах». Напомню, что первый в России поезд отправился по железной дороге «общего пользования» Петербург - Царское Село 30 октября 1837 года в 12 часов 30 минут, когда на нынешнем Витебском вокзале дважды ударил колокол и протяжно прозвучал свисток паровоза «Проворный».
После Крымской войны он стал уже «путейцем самой высшей квалификации», работал на юге России. Вершиной инженерной карьеры А.И. Штукенберга стала его служба в столицах начальником отделения 1-го и 3-го округа путей сообщения, и работа в важнейшем для тогдашней России техническо-строительном комитете при Министерстве внутренних дел.
И еще один герой уже непосредственно «нашего времени» - июля-августа 1941 года, о котором я непременно должен рассказать в этом очерке.
Детей из тюзовского пионерлагеря в конечном итоге все-таки успели забрать, пробились к ним буквально за считанные часы до прихода немцев в деревню. Вывезли всех без потерь. Но не вглубь страны, а обратно домой в Ленинград - в новое пекло под налеты вражеской авиации.
Андрей Ростиславович, хоть и не вышел ни годами, ни ростом, на равных с «большими» взрослыми артистами дежурил на тюзовской крыше. И так же, как и новоиспеченный архитектор Ирина Александра Мелентьева, боялся не немцев, а темноты, и того, что по «слабосилью» не справится с зажигалкой - не сможет добросить ее с чердака до огромной кучи песка, специально приготовленной посередине театрального двора для ее тушения.
Наконец, администрация города выделяет для эвакуации Нового ТЮЗа отдельный вагон. Дата отъезда - ночь с 22-го на 23-е августа. Замечательный был режиссер Борис Вульфович Зон, но уж очень любил он, видимо, собственное семейство. Людей в новотюзовскую теплушку набралось великое множество, но все больше не артистов, а родственников директора. Умудрившись забрать всех «ближних и дальних», Зон оставил в блокаде и «несостоявшуюся невесту» А.Р., ожидавшую в это время ребенка. Не могу не сказать и о том, что ведущая актриса театра Елена Владимировна Деливрон является представительницей семейства обрусевших французских швейцарцев, состоявших на русской службе со времен Екатерины и прославившихся в битвах со шведами, в Синопском сражении, в Севастополе. А дед ее адмирал Карл Карлович Деливрон был сподвижником С.О. Макарова, участвовал в Цусимском бою и в обороне Порт-Артура.
На счастье Елена Владимировна выжила, и девочку, рожденную в блокаде, тоже спасла – среди артистов было немало людей достойных, которые помогли ей - привозили с фронта что-то из еды, а однажды даже шоколадку.
Итак, поздний вечер 22 августа 1941 года. Три дня тому назад наши войска оставили Новгород Великий. Городские вокзалы западного и северного направлений не работали, поэтому Лев Александрович и Ирина Александровна, работавшие «на окопах», добирались в Ленинград пешком. А 20 августа немцы заняли и расположенную на Волхове станцию Чудово, тем самым перерезав и Октябрьскую железную дорогу. Прямое сообщение с Москвой прервалось.
Но это была, так скажем, еще «пред-блокада», поскольку для поездов с людьми и эвакуируемым оборудованием оставался еще шанс пробиваться с Московского вокзала на Мгу и Волховстрой. А оттуда открывался уже трудно достижимый для немецкой и финской авиации путь на восток нашей страны.
Однако, от какого числа вести отсчет блокады. Согласно официальным советским источникам «военная блокада Ленинграда немецкими, финскими и испанскими войсками началась 8 сентября 1941 года, когда немцы, захватив Шлиссельбург, замкнули окружение города с суши».
Это, в принципе, верно, но не совсем. Сообщение прекратилось раньше. Произошло это 28 августа, когда под ударами немцев пала Мга, что означало окончательное «захлопывание» блокадного мешка. А еще через два дня, когда немцы вышли к Неве, связь Ленинградом с центром прекратилась полностью.
Так что новотюзовский эшелон оказывался, едва ли не последним из тех последних, кто еще пытался прорваться за пределы сжимавшегося кольца блокады. Собирались на самой дальней левой платформе московского вокзала, примыкающей к Тележной улице. Тишина и темнота кромешная - последняя декада августа, белые ночи давно закончились. Но это к счастью - чтобы спастись, им нужно, чтобы было именно темно. Однако, облака высокие – и это плохо, ибо означает, что встречи с самолетами не избежать.
Приходили, конечно же, заранее, но чего-то или кого-то долго ждали, так что отправились уже далеко за полночь. До Мги пятьдесят пять километров – в мирное время час езды на электричке. Проехали городские кварталы, Обухово, Рыбацкое – тогдашние пригороды, а ныне - станции метрополитена. Двигались медленно и осторожно, двери в вагонах не закрывали, чтобы выскочить при налете или артобстреле. Дорога на Мгу вначале идет вдоль берега Невы, а возле Понтонной и Саперной почти что примыкает к ней. Обе эти станции прошли удачно – то есть незамечено.
Но после Ижоры где-то между Пеллой и Ивановской поезд вдруг остановился. Ночь, темное открытое пространство, неубранное поле, но справа от железнодорожного пути за черными высокими кустами лесопосадок просматриваются сполохи огней, свет фар и слышен рев мощных моторов. И через динамик, но не с вышки и не с самолета, а откуда-то с земли, доносятся слова команды по-немецки. Речь резкая – характерно прусская, как шепнула мама Андрею Ростиславовичу. Языками она владела в совершенстве, и даже думать предпочитала по-французски, как их учили в Институте благородных девиц, который она закончила в 1916 году, но не в Петербурге, а в Москве. И многочисленные зоновские родственники затаились и тоже вслушивались внимательно в переговоры за лесополосой и тоже многое в них понимали – «идиш» очень близок к немецкому.
Немцы были настолько рядом, что обнаружить эшелон они могли в любой момент. Так что оставаться дольше здесь было нельзя. Читатели старшего поколения могут вспомнить, как трогались с места даже не очень длинные составы на паровозной тяге – лязг, звон, перестук буферов вагонов, люди падали с полок. Но машинист в том поезде был величайший искусный мастер – никто и не заметил, не услышал и не почувствовал, как потихоньку они стронулись и, буквально крадучись, начали движение дальше в направлении Мги.
Самолетная атака на эшелон началась между Пеллой и Горами и продолжалось вплоть до платформы 45 километр. Ночь, вроде бы, и темнота, но немец все же их заметил на встречном параллельном курсе. После этого он сделал разворот и начал заходить в пике. Но машинист наш тоже был не промах - то ускоряет свой состав, то резко тормозит. И как-то все же увернулись – промазал немец. Однако пошел на новый круг.
А местность там - то полностью открытая, а то леса и перелески. Русский машинист был и герой, и настоящий умница! Доезжают они до ближайшего лесочка, останавливается и стоит там в ожидании самолета, потихонечку отцепляя вагоны и на пределе возможного раскочегаривая паровозные котлы. Потом, когда увидел, что немец приготовился и снова атакует, он резко трогается, бросается, что называется, с места в карьер. И при этом гудит, свистит, включает фары, сигналы подает. Дым из трубы и искры из паровозной топки летят по сторонам. Немец снова отбомбился, но теперь, оказывается, только по паровозу, несущемуся на всей скорости в ночи по трассе без вагонов. И опять промахивается. А машинист был и мастер своего дела, и чудо, какой хороший светлый человек. Немец снова отправляется на разворот, а он в это время возвращается за эшелоном, быстро прицепит и тащит его дальше и дальше, продвигаясь такими прерывистыми стремительными бросками к цели - к Мге. И так не единожды - много раз совершал подобный маневр тот неизвестный безымянный русский герой.
Так что все-таки проскочили, выскочили, и до «пункта назначения» добрались. Но не для всех и не всегда эти игры со смертью заканчивались столь успешно. Приведу отрывок из письма энергетика Н.А. Манова, ученика и последователя академика Льва Александровича Мелентьева: «Мы эвакуировались из Ленинграда примерно 25-го августа и наш эшелон не разбомбили (то есть, мир опять же тесен - и Николай Алексеевич вполне мог быть в том же поезде, что и А.Р.). А вот состав с детьми, которых раньше отправили из Пушкина по Октябрьской дороге в сторону Москвы (отец был на фронте, и мама отказалась отдать нас троих на этот поезд), разбомбили. Наверняка, на нем были знаки, что он гражданский, и возможно и о том, что с детьми».
Кто-то погибал и в самом конце этого рискового смертельного маршрута, даже достигнув уже самой Мги. То, что увидел А.Р. на станции, трудно передать словами. Ад кромешный, искореженные рельсы, разбитые сожженные вагоны, разбросанные по сторонам, воронки от разрывов бомб и снарядов. По-видимому, прямо на станции был разбомблен состав от какого-то очень крупного эвакуировавшегося ленинградского завода – повсюду валялись изуродованные станки и оборудование. И тут же ватники и валенки – целый вагон русских катаных валенок, которые горели и тлели вплоть до прихода немцев, смеявшихся над смешной нелепой русскою одеждой. И тут же их сожгли и уничтожили, а потом, когда пришли сорокоградусные морозы страшнейшей той зимы 41-го года, сильно жалели об этом.
Всех новотюзовцев, добравшихся тогда до Мги, тут же быстро распределили по машинам и автобусам, и отправили их дальше вглубь страны работать на Победу. А их герою машинисту предстояло возвращаться в Ленинград в блокаду. Слов благодарности ему, конечно, никто не высказал тогда, да он их и не ждал – он делал так, как подсказывала совесть и его понятие о чести, о долге перед людьми, перед своим народом.
Но память об этом светлом человеке останется у нас сердцах. Так что слава его деяниям, его геройству и его доблести, и, уверен, скромности. И дай Бог, чтобы он выжил в блокадном лихолетье, и чтобы такие замечательные люди у нас в России не переводились!
<-- Предыдущая страница | Содержание | Следующая страница -->
| На главную | К другим публикациям | В начало страницы |