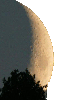 |
 |
 |
| Содержание | 12.03.10 |
2.9. ГРЭС № 8 «Невская Дубровка» и другие близкие и дальние отзвуки и отголоски
Отечественной войны в послевоенной жизни поколения Л.А. Мелентьева
Война для нашей семьи весной 1945-го года не закончилась. Капитан Семен Яковлевич Егорченко, отец моей жены, сразу же был направлен воевать и дальше. На Дальнем Востоке - на Курилах, на Сахалине надо было «замирять» императорскую Японию. Война жила и оставалась в памяти, а порой напоминала о себе и там, где этого совсем не ждали - в производственных делах и в нашей «личной» жизни.
Помню рассказы Л.А. о ЧП, случавшихся на теплоэлектростанции «Невская Дубровка» и о проблемах, возникавших в Ленэнерго после ее восстановления и ввода в эксплуатацию.
ГРЭС № 8 «Невская Дубровка» – район так называемого «Невского пятачка», с которым все 900 дней блокады связывались надежды ленинградцев на освобождение. Этот крохотный клочок земли на левом берегу Невы возле Ивановских порогов имел размеры около 2 километров в длину и 600 метров вглубь вражеских позиций. На карте его и вправду можно было бы накрыть пятикопеечной монетой. Но, несмотря на малость, присутствие здесь наших войск не позволяло немцам полностью замкнуть кольцо блокады и окончательно прервать снабжение города по Ладожскому озеру.
Здесь в тридцати километрах от Невского проспекта находился ключ не только к Ленинграду, но и ко всей гигантской территории северо-запада России. Сдадим мы «пятачок», соединятся немцы с финнами, а вслед за этим погибнет город и может рухнуть вся система советской обороны вплоть до Архангельска и Мурманска.
Битва за «Невский пятачок» стала одним из самых трагических и героических событий в истории 2-й Мировой войны. Ее исход определял стратегию военных действий на всем восточном фронте и, в конечном счете, определял и сроки победы над фашизмом.
Здесь в первых числах сентября 1941-го года была пресечена попытка немцев с ходу форсировать Неву, а затем отсюда же предприняты усилия по первой «де-блокаде» Ленинграда. Здесь русские держались до вскрытия Невы ото льда в конце апреля 1942 года, когда дальнейшая поддержка бойцов, державших оборону «пятачка», оказалась невозможной.
А потом были новые кровопролитные бои, и наши вновь сумели «зацепиться» за левый берег, чтобы 19 января 1943 года опять же именно отсюда осуществить прорыв восточного полукольца блокады.
В десантных операциях и в сражениях за Невскую Дубровку участвовали стрелковые дивизии, танки, артиллерия, солдаты, матросы, понтонеры, водолазы, моряки Ладожской флотилии, морские пехотинцы с Балтики. Сражались там и курсанты первокурсники набора 1941-го года из Высшего морского пограничного училища «подплава», располагавшегося перед войною в стенах ГУАПа, в котором я сейчас преподаю. Об этом нынешним моим студентам напоминает мраморная доска в честь и память тех необученных мальчишек, не успевших побывать в морях и не спускавшихся в глубины океана. Все они погибли, так и не пропустив на правый берег немцев.
«Невский пятачок», в прямом буквальном смысле слова был пропитан кровью. Более 50 тысяч снарядов каждые сутки выпускалось по нему. Так что и по сию пору каждую весну талые воды выносят неразорвавшиеся бомбы, мины, артиллерийские снаряды, непогребённые останки наших воинов. Немецкие потери в этом районе оцениваются в 35 - 40 тысяч солдат и офицеров. Потери Красной Армии убитыми и ранеными в ходе 400-дневной операции, по официальным данным, составили от 65 до 600 тысяч бойцов! Российские потери российского размаха! И такой же российский разброс в оценках! Такова в России ценность жизни. И не отсюда ли проистекает и отношение союзников к оценке вклада СССР в победу над фашизмом.
Сейчас теплоэлектростанция «Невская Дубровка» работает на природном газе, а до и сразу после войны она функционировала на твердом топливе – в основном на торфе. Заготавливали его, как рассказывал Л.А., неподалеку в Синявинских болотах и Назии - крупных окрестных торфопредприятиях, располагавшихся в местах боев, следы которых и поныне различимы на данных космосъемки.
Технология работ на ГРЭС № 8 предполагала проведение последовательного ряда сложных крупномасштабных операций. Вначале приходившие на станцию железнодорожные составы с помощью грузоподъемника поднимались на эстакаду. Затем вагоны с торфом переворачивались, и все их содержимое по очереди вываливалось вниз в огромные торфоприемники, предназначенные для бункеровки и транспортировки топлива и последующего его сжигания в специальных печах ГРЭС. Однако вместе с торфом в топки попадали и находившиеся в нем бомбы, мины и снаряды. Там, на «Невском пятачке» их было так много, что полностью их отобрать и отсеять на предварительном этапе заготовки и погрузки торфа в вагоны было невозможно. В итоге и происходили те самые ЧП в электроэнергетике - взрывы котлов и выход электростанции из строя.
Иногда последствия войны не выглядели так масштабно и разрушительно, и их «эхо» было, так скажем, «локальным» и не столь громким. Помню, как на Петра Лаврова собирался «внеочередной» большой совет семьи Мелентьевых: К.П., мама, отец, Лев Александрович, Е.А. Ирина Александровна отсутствовала – она уже уехала на первую свою послевоенную работу архитектором в разрушенном до основания Витебске. Собирались вместе, чтобы определиться, что со мною делать! Повод - смерть соседского мальчика. Он не был моим близким другом - просто главным заводилой всех проказ и хулиганских действий в нашем «околотке». Не знаю почему, но в моем послевоенном детстве было много жестокостей, «великих противостояний», драк стенка на стенку. Помню постоянное при встрече с мальчишками на улице: «Ты за Треску, или Балету?». И далее, неважно, «за кого ты» - обязательная драка. До крови – до первой боевой «кровянки»!
Итак, погиб соседский мальчик - подорвался на мине! Но, что же можно и нужно было сделать со мной! Ездит «за порохом», взрывает самодельные заряды, раскатывает по Ленинграду «зайцем» на подножке, на «колбасе» трамвая (что совсем не сложно, уверяю). Кто-то из наших видел даже, как я катался на заднем бампере автобуса (для этого и вправду требовалось большое мастерство и виртуозное искусство). А «тетя Катя» сообщила, что встретила меня недавно висящим сзади на колбасе под дугами троллейбуса (это место у нас считалось почти «плацкартой»). Висит, и книгу умудряется еще читать! «Что делать с 8-летним парнем, отбившемся от рук, и что с ним будет дальше?», - пытаются понять и разобраться самые родные и близкие мне люди.
Наконец, мама находит свое «русско-народное» радикальное решение «проблемы» и уводит меня в нашу с К.П. «маленькую» комнату, дабы «предпринять» ко мне ряд мер «активного воздействия»: «Снимай штаны!». Снимаю, послушный был. Да и знаю, что сопротивляться моей маме не имеет смысла. – «Ложись!», - следующая ее команда. Ладно, ложусь - укладываюсь поперек высокой бабушкиной кровати. И мама тут же начинает хлестать меня по тому месту на теле маленького человека, которое как будто бы специально предназначено природой для подобных «экзекуций». К.П., как Цыганок из «Детства» Горького, меня жалеет и подставляет руку, чтобы не так уж больно было. Молчу, поскольку понимаю, что там за стенкой все наше семейство переживает: «бить его или не бить»! Лежу, креплюсь под ударм мокрым скрученным вафельным полотенцем и вспоминаю подслушанный мной разговор на эту «тему» отца со старшим братом и их обоюдное смущение. Как в 1920-е они ходили потихоньку от родителей со школьными друзьями Сережей Муселиусом и Мишей Бруни из Серебрянки к полотну Варшавской железной дороги и там во главе с Л.А. «тренировали» свое «мужество и смелость», соревнуясь, кто из них ближе подойдет к идущим на высокой скорости пассажирским и товарным поездам. И поступали так они до той поры, пока однажды машинист не обдал их струей горячей пара, тем самым отучив «зарвавшихся» мальчишек, рисковавших жизнью, от предельных сумасшедших «шалостей».
Спрашиваю нынешних моих студентов на практических занятиях по науке «behavior ecology» (экология поведения), собираются ли они наказывать своих детей. Докладываю, нынче в век демократии в России преобладают «пацифисты» - противники насилия над личностью!
А подоплека этой истории в трагедии, случившейся с Вовкой «Красным» из дома № 41, так прозванным за ярко-красную рубашку, единственную такую на всю округу. Жил он на первом этаже слева от арки. Отец погиб на фронте, мать вечно на работе, так что забираться к нему можно было прямо с улицы в окно. Мы – оглушенные войной тогдашние мальчишки, наверное, интуитивно желали продолжения пальбы и стрельбищ. Поэтому и ездили «за порохом» в товарняках в Поповку - деревню, находившуюся за Ижорским заводом на московском направлении обороны Ленинграда. У Маршака есть строчка в знаменитом детском его стихотворении о «человеке рассеянном» с улицы Басейной: «Это что за остановка? Бологое иль Поповка?».
Так это о той самой нашей Поповке, только еще мирной довоенной. А потом там шли долгие тяжелые бои, и все в округе было заминировано. Туда-то и отправился в очередной - последний раз Вовка «Красный» во главе «десанта», состоящего из нашей дворовой компании. Разбирали, как обычно, мины и снаряды. Взрывчатку и артиллерийский порох в виде длинных черных «макаронин» собирались отвезти домой. Но не к себе в квартиры, конечно же, не дураки, ведь, а хотели спрятать в дровах, в подвалах. Набрали все, что «запланировали». А после - в ожидании подходящего состава с песком с платформами с открытыми бортами отправились на местное кладбище. Забрались на огромный старый памятник, и стали всей компанией его раскачивать. И это все рвануло! Оказалось, что немцы, отступая, заминировали даже могильные плиты. Вроде бы, ребята и знали это, но, видно, позабыли, не рассчитали, увлеклись. Так, что от всей команды нашей и мокрого места не осталось, а от Вовки нашли лишь маленький клочок его рубашки красной.
Проходили годы. История, которую я дальше собираюсь рассказать, относится уже к временам далеким и по срокам и по расстоянию от мест, где велись бои под Ленинградом. Конец июня 1986 года. Уже более 20 лет прошло после окончания войны, а она, оказывается, никуда от нас не делась, и ее «эхо» услышать можно было даже и за «три девять земель» от России – в Новой Зеландии. Это был год смерти Л.А., и эту историю я успел рассказать только Владимиру Александровичу Мелентьеву, моему отцу.
Я в рейсе в Тихом, или Великом океане на НИС «Академик Ширшов». Петр Петрович Ширшов - из самых выдающихся полярников «папанинцев», еще один из «пароходов-человеков» в моей жизни! Июнь в южном полушарии «разгар» зимы, а мы одними из первых в ученом мире исследуем явление Эль Ниньо, которое, как нынче полагают многие специалисты в области климатологии, является ответственным за потепление климата Земли, реально наблюдаемое в мире в последние десятилетия.
Почти месяц мы уже работаем на «разрезе» по термическому экватору от Чили до архипелага Новая Гвинея. Изучаем противотечение Кромвеля - могучую океаническую подповерхностную реку, направленную от Америки на запад до берегов Австралии. И, наконец, этот этап работ закончен, и для пополнения запасов воды и топлива, для закупки продуктов и отдыха экипажа намечается «заход» в тихий провинциальный порт Веллингтон.
В Новой Зеландии до этого я не был, поэтому, хоть и рискую лишиться возможности «ходить» и дальше в «загранплавания», все-таки решаюсь «оторваться» от своей группы и осмотреть страну самостоятельно. Законы «развитого» социализма были таковы, что на берег нас выпускали только по три – четыре человека. При этом непременно, чтобы в каждой «русской тройке» (так в шутку называли нас и «послемаовских» китайцев «туземцы» иностранцы) был «пролетарий». Им мог быть матрос из палубной команды, официантка, повар, уборщица или иной другой представитель «реального» труда - физического способа производства, по Марксу.
Необходим был в каждой такой «команде» и член КПСС. Я беспартийный, но по «совокупности заслуг перед отечественной и мировой наукой» назначен старшим в группе. Вижу, что под моим «началом» собрались нормальные оттренированные «соцреализмом» люди, поэтому отпускаю их по магазинам за покупками, а встречу договариваемся назначить ровно через три часа.
Какие они, эти самые новозеландцы? Решаю начинать «знакомство» со страной с железнодорожного вокзала. Пристраиваюсь возле газетного киоска и начинаю незаметно рассматривать толпу.
Раннее утро. Люди «пачками», большими порциями вываливаются из пригородных электричек. Спешат, торопятся на службу, на работу. Озабоченные без улыбок лица. Некоторые только еще отходят ото сна, зевают, на ходу потягиваются. Да, нет – все, вроде, как у нас в России. Одеты только, может быть, получше и поаккуратней, да и туфли у большинства начищены.
Беру билет до ближайшей крупной станции на карте. Получается примерно в полутора часах езды в один конец от Веллингтона, что открывает возможность пересечь едва ли не полстраны - «от моря и до моря», как говорят поляки. Но при этом мне надо все-таки «не проколоться» и успеть воссоединиться с мне «подопечными» людьми. Я главный, но если группа будет «развалена» - был такой «глагол» от партбюро, то нам не поздоровится и кара упадет на головы всех моих коллег на судне. Таков «закон», такая установка от «белого дома» - владивостокского, не вашингтонского!
И что же я увидел там, что нового узнал в том новозеландском путешествии? Оказалось, что придуманные мной «попутчики» в этой «дороге в никуда», все-таки другие, чем русские. Как, впрочем, как я выяснил потом, и в основной датской «старо-зеландии». Как в большинстве своем, и все, так называемые, «западные» люди. Входят в вагон, рассаживаются строго в соответствии с местами, указанными в купленных билетах. А дальше, как по команде - голова налево (или, в зависимости от расположения мест - направо), и начинают глядеть в окно, сосредоточенно рассматривая, наверное, сотни раз уж виденные до того пейзажи. И при этом, как будто в рот воды набрали!
Оба брата Мелентьевых, как я уже рассказывал, могли кому-то показаться не слишком открытыми для окружающих, но, сколько же историй жизни случайно встреченных людей привозил, я помню, отец мой из своих командировок и Л.А. после поездок на охоту. Сколько в них было сочувствия к чужим и незнакомым людям. И это от привычек и поведенческих «стереотипов» семьи и окружения, да, и в целом – это прирожденное «природное» свойство русского народа. Намерение и желание открываться и доверяться встреченному человеку, как говорят специалисты в области «behavior ecology», чисто российская особенность, закономерно на уровне подсознания возникающая на необъятных просторах нашей родины, где люди, не просто должны, а и обязаны знать друг о друге больше. И не из любопытства, а для выживания «социума» - чтобы в соответствии с принципом географического детерминизма, если вдруг понадобится, поддерживать «и ближнего своего и дальнего» в трудный сложный момент. Уверен, что в век саней и дилижансов наши люди выкладывали «содержимое» своей души попутчику точно так же, как это делаем и мы сейчас в вагоне скоростного экспресса «Санкт Петербург- Москва».
А я-то думал, наберусь здесь знаний для последующих рассказов о жизни тех людей, которые по отношению к русским ходят вниз головой. И у которых даже вода в водопроводном кране в силу специфики вращения Земли крутится по часовой стрелке – а н т и ц и к л о н и ч е с к и! Так ничего и не узнал я ни нового, ни интересного за показавшуюся мне вечностью безмолвную дорогу туда - обратно «вглубь» новозеландской стороны. И все мои попытки «разговорить» сменявшихся в пути соседей оказались тщетными. На вопросы они, конечно, отвечали - корректно, вежливо, но предельно кратко. И после этого – опять молчок.
Но назавтра нам всё же повезло. С утра мы были в музее. Здание замечательной архитектуры, но его «начинка», как говорится, «андеграунд» - авангардисты, абстракционисты, коллажи с включениями разноцветных тряпок, кусков пластмассы и металла, скульптурные «изделия», сработанные с помощью электросварки. Порадовались только, как родным, нескольким гравюрам Джорджа Доу «Галерея 1812 года» в Эрмитаже.
А после всех этих «художеств» отправились уже без всякой цели бродить по городу. Вдруг видим впереди ремонт дороги. Компрессор, перфоратор и молодой плечистый крепкий парень с отбойным молотком вспарывает асфальт в том месте, где, как у нас в Союзе, прорвало старую трубу на теплотрассе. Конечно, это интересно. Останавливаемся - всегда приятно наблюдать со стороны, когда работают другие люди. И тут к нам из толпы вдруг обращаются по-русски. Говор, правда, жесткий, твердый, явно не петербуржский, и не московский. Замечу тут же, что в западной толпе в те годы все мы – и моряки и «прикомандированные» люди легко и просто были узнаваемы по интересу к окружающему миру и неспортивной выправке. Даже на пляже нас сразу «вычисляли» по скромности и устаревшему фасону плавок.
- «Вы смотрите, как трудится наш сын, - оказались эмигранты из Белоруссии из Мозыря. - Он только сегодня получил работу. И потерять ее ему никак нельзя. Вот, и старается!».
А дальше расспросы о жизни в покинутом СССР: «Ну, как теперь там?». И далее подробная история их странствий, переживаний при переезде и жизни посередине океана, среди чужих и непонятных им людей в крохотной квартирке без кондиционера с потолками в два и два десятых метра. «Даже Никита «наш» не догадался так приблизить пол к потолку! И вообще, там в Мозыре и веселей, и интересней, чем в этом «ихнем» Веллингтоне. Ни театра, ни концертов», - жалуются случайно встреченные посередине улицы бывшие сограждане.
«И еще! Вы знаете, - возмущение недавних соотечественников, доходит до предела. – Вчера мы были в пабе. Смотрели по телевизору футбол. Первенство мира, наши» играли с Бельгией. И представляете, за русских болели только мы! Их местная команда в Мексику пробиться не сумела. И все там – вся пивная болела за бельгийцев против «нас»! Но ничего – хоть нас и трое было вместе с сыном, он стоит десять здешних - мы их перекричали!». Такие, вот, дела на белом свете – эмигранты третьей экономической волны, контакты с которыми нам запрещались советской властью, остались своими открытыми родными, «болельщиками» нашей страны!
Только простились мы с людьми из Белоруссии, как тут же новая встреча с прошлым, давно уже ушедшим – «эхо», трагические отголоски войны, незабытой и на другом конце планеты.
Гуляем по центральной главной улице, названной тут «просто» без затей и без фантазии, как, впрочем, и во всех англоязычных странах Мэйн-стрит. Левостороннее движение, оказывается, у них не только у автотранспорта, но и у пешеходов – так что постоянно натыкаемся на встреченных на «нашей» - правой полосе людей. Городок провинциален, скучен, скучна его архитектура, толпа скучна и безразлична, чужие лица, оцифрованное скучное название улиц. Не то, что там на родине: «Пройдешь по Абрикосовой, свернешь на Виноградную. Тенистые и Тихие, Вишневые, Грушевые, Кленовые, Прохладные, Глухие и Зеленые!». И в самом деле «от их названий ласковых становится светлей»! А тут «глухая и зеленая», разве, что тоска.
Вдруг вся моя группа оживляется – «справа по курсу» книжный магазин. Ах, замечательное это слово «вдруг», так украшающее книги и помогающее вновь овладеть вниманием читателя. У немцев, кстати, как учила Екатерина Александровна Мелентьева, есть свой аналог: «Но тут подошел путешественник!» – то есть человек, который много видел и много знает!
Увидели мы книжную витрину, и откуда только силы появились после дня скитаний по чужому городу без нормального обеда. Однако это оказался даже не магазин, а лавка – длинный узенький «пенальчик» шириной во входное зарешеченное окно, становящееся на ночь дверью. Но все равно – конечно же, заходим. Покупателей нет никого, но книг тут множество – ими уставлено буквально все наличное пространство лавки от пола и до потолка. Привычно перебираю в два-три ряда стоящие солидно фолианты в богатых и красивых переплетах на многих европейских языках. И вдруг - великое везение и счастье встретить на чужбине родную душу – натыкаюсь на шкаф, полностью забитый русской книгой.
«Россика» - книги о России русских и зарубежных писателей на русском языке и в переводах, изданные в СССР и за границей. Есть и совсем новые издания. Много и старых книг, подержанных, но все они в приличном состоянии. Художественная литература – и не только классика, но и хорошие советские писатели из самых достойных и мною уважаемых. Учебники для школ и ВУЗов по математике и физике, химия и биология. Особенно мне близкий Гидрометеоиздат, и наши книги по океанографии, метеорологии, по спутниковому землеведению, среди авторов которых вижу и имена моих знакомых ученых из России.
Здесь же памятный мне с детства Учпедгизовский букварь с портретом Володи Ленина в кудряшках на первой же его странице. Портрет, однако, аккуратно крест, на крест, перечеркнут и под ним интеллигентно мягко подпись от руки - «Лжец». Краткий, но емкий приговор юному «вождю мирового пролетариата». Досталось, правда, от чутких на обман и ложь неведомых новозеландцев и мемуарам Голды Меир и «нашим» московским «диссидентам». На «творениях» Войновича «Иванькиада» и «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» формулировка не менее жесткая и тоже очень точная и справедливая: «Он не любит Россию»!
Широкие большие полки заняты художественными альбомами и монографиями по искусству, а также прекрасно иллюстрированными книгами, издававшимися в разные годы Детгизом, «Искусством», «Советским художником», подобные тем, которые когда-то по великим послевоенным праздникам студенты ЛИЭИ дарили своему любимому учителю профессору Льву Александровичу Мелентьеву.
И тут же мечта любого книжника библиофила - длиннющий ряд поэзии в издании Большой и малой серий «Библиотеки поэта», основанной Максимом Горьким по возвращении в СССР по указанию Сталина. Хитер, разнообразен был в своих злодействах тот людоед генсек наш, но, не отнимешь, и умен. Следил за «имиджем» страны, внедряя в головы соратников по партии свой принцип «культурного строительства и воспитания масс»: «У Гитлера был Геббельс, а у меня есть Гилельс». Применял и кнут, и пряник, прививая народу хороший вкус. На что уж сер и неотесан был Н.С. Хрущев, и тот усвоил «уроки» диктатора – тирана. Вплоть до отставки ходил на «Лебединое озеро» в Большой театр, а не на концерты в День милиции с участием «примадонны» сомнительного качества и репутации.
Спешить нам некуда. Стоим, рассматриваем книги, обмениваемся впечатлениями, читаем вслух понравившиеся стихи. Ну, и, конечно, полагаем, что тут за десятки тысяч километров от России нас никто не слышит и не понимает. Разговор ведем свободно, громко и не робко – не так, как перед рейсом на «собеседовании» в райкоме КПСС. Замечу здесь же, что хотя мои «согрупники» и числятся на судне по штату «пролетариями», однако, все они очень неплохо образованы. Почти что каждый учится, или уже имеет за спиной университет. В моря же ходят, конечно, и для заработка, но главное для большинства – романтика!
Раскрываю томик Лермонтова и наугад, в конце его вдруг натыкаюсь на стихотворение 1840 года «Горные вершины»:
«Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не шумит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнешь и ты».
Гениально! Вроде бы, так просто, но как многопланово. Какая музыка в звучании стиха, гармония в соединении таких, казалось бы, неброских рядовых обычных русских слов. Добавьте к этому и то, что мы уже почти четыре месяца безвылазно работали в морях, в океанических просторах. Так что глубину и силу нашего тогдашнего восторга понять и оценить сможет лишь тот, кто как и мы, так долго не видел родину.
Но тут торжественность момента нарушилась. Из-за громады книжных полок неожиданно вдруг появился нестарый небольшого роста господин с лицом открытым честным, но неспокойным. На его плечи для «защиты» от здешних «июньских» холодов было наброшено демисезонное пальто, на шее повязан овечьей шерсти теплый шарф – магазины такого типа, по причине экономии электроэнергии, в этих краях, конечно, не отапливаются. И на прекрасном русском языке, с едва заметным акцентом жителя Прибалтики говорит нам:
- «Простите, что невольно подслушал разговор и вмешиваюсь. Вы правы, это и в самом деле гениально. Но обратите внимание, что это лишь вольный перевод «Wanderers Nachtlied». «Ночная песня странника» была написана другим великим гением – Иоганном Вольфгангом Гете, давшим толчок этим предсмертным размышлениям Лермонтова. Да, это трудно и почти что невозможно переводить высокую поэзию. И вообще, как говорил все тот же Гете: «Тот, кто не знает иностранных языков, ничего не смыслит и в собственном родном наречии». Послушайте! Сравните!», - и на безукоризненном немецком с рокочущим гортанным звуком «r» он начинает читать на память:
«Über allen Gipfeln
ist Ruh,
in allen Wipfeln
spürest du
kaum einen Hauch;
die Vögelein schweigen im Walde,
warte nur, balde
ruhest du auch!».
Я слушаю внимательно, и хотя знаю по-немецки лишь несколько десятков слов, восторгаюсь теперь уже музыкой стиха величайшего из самых великих немцев. Незнакомец, почувствовав, нашу языковую «неосведомленность», нам помогает и дает «подстрочник»: «Над всеми вершинами покой, во всех макушках едва ощущаешь какое-то дыхание; птички молчат в лесу, только подожди, скоро отдохнёшь и ты».
Потом называет свою фамилию и представляется – доктор философии, славист филолог, выпускник Рижского университета 1942 года, в войну служил в германской армии, был переводчиком. Потом - с подходом советских войск, опасаясь наказания (так и говорит), ушел на запад с немцами. Старший брат был мобилизован в Красную Армию, в июле 1941 года ранен, потерял ногу, но, что с ним сталось дальше, как и с другими его родными, не известно. Сам же он долго странствовал по свету, пока, вот, наконец, не оказался в Веллингтоне. Живет тут без семьи, без друга. Сейчас работает здесь в этой книжной лавке по найму на хозяина.
«Как там теперь «у нас?», - взволнованно пытается начать беседу новый наш «знакомец». Потом, почувствовав, по-видимому, что оговорился, поправляется. – Как там «у вас» в России? Что Горбачев? Какие перемены?».
И было видно, что он желает, и даже жаждет продолжения разговора, но в то же время боится нашего отказа. Поэтому, наверное, и добавляет в помощь себе еще один прекрасный мудрый афоризм из Гете: «Люди, с которыми мы вступаем во взаимное приятное общение, есть то, что называют родиной!».
Честно признаюсь, мелькает на секунду и такая мысль: «Лопнет моя служебная «карьера» по причине «чрезмерной» любознательности!». Общаться с людьми с подобной биографией нам было категорически запрещено. И перед выходом в морскую экспедицию на эту «тему» нас специально «инструктировали».
Осматриваю еще раз свой «подопечный» коллектив. И вижу, что им это все не просто интересно. Им жаль несчастного российского изгнанника, и они сострадают ему по-человечески, по-русски. Нет, эти ребята не выдадут, не «настучат» и не «заложат» помполиту. Да, и сам первый помощник капитана у нас на судне отличный парень - несостоявшийся океанолог, «перестройщик», карась – идеалист. Надеюсь, что и он поймет эту «народную дипломатию». А если что, и «подстрахует» перед своим начальством!
Ладно! «Была, не была! Что случится? Все равно один раз умирать!», - как поется в эмигрантской песне. Продолжаем разговор.
«Есть в России поэты гиганты. Их немного, - на чистой высокой ноте говорит латыш - наш бывший соотечественник. И я вижу, что он патриот России, не из числа тех «обижающихся» на русских и на мою страну прибалтов - националистов. - Но есть, так скажем, и сочинители второго, третьего, даже четвертого плана, общий совокупный труд которых и выстраивает великое здание русской поэзии. Это они во многом и создают имеющееся в мире представление о русских и России. Есть авторы, оставшиеся в памяти людей одним своим стихотворением, одной лишь песней. Но уберите их, забудьте, нарочно замолчите, и тогда сияние нашей культуры померкнет, слава ее закачается, жизнь станет беднее.
Вот вы рассматриваете все эти прекрасные книги из Большой и малой серий поэта. К сожалению, у нас в собрании нет сборника стихов Семена Надсона. А это был замечательный поэт. Его поэзия имеет свои неповторимые черты, его узнаешь сразу по сжатости и афористичности стиха: «Как мало прожито, как много пережито». Да, стихи его печальны: «Только утро любви хорошо, хороши только первые, робкие речи». Но как образны они и как красивы: «Облетели цветы, догорели огни». Как музыкальны – недаром Рахманинов и многие другие большие «наши» композиторы писали так много музыки – романсов на его стихи!». Тут собеседник наш невольно вновь споткнулся на этом слове «наши», столь важном для него и из-за этого так трудно им произносимом. Но, ощущая поддержку нашу и сочувствие его речам, невольную свою «ошибку» - оговорку «исправлять» уже не стал.
Но, ведь, и в самом деле, прав был этот человек, оказавшийся игрушкой в руках судьбы, ставший адептом русской культуры в южном полушарии. После несправедливого приговора нахрапистого «горлопана» Маяковского: «Семен Надсон наводит сон» предшественник поэтов серебряного века, оказался забытым у себя на родине. О бедной полуголодной жизни Надсона - пансионера второй гимназии в С. Петербурге, а потом курсанта Павловского военного училища, я узнал впервые от дяди Л.А. - Константина Константиновича Лосева, отец которого учился вместе с Надсоном. Особенно запомнились его рассказы о том, как за «французскую» булочку поэт писал своим товарищам кадетам стихи на задававшиеся ими темы.
А собственно его высокую поэзию я услышал от Екатерины Александровны, жены Л.А., дававшей на дом мне с большими оговорками о непременности возврата почитать дореволюционный сборник его стихотворений. Книга издана была Литературным фондом, ставшим всемирно знаменитым в связи с историей с присуждением нобелевской премии Борису Пастернаку и вынужденным его отказом от нее. Это мало кто знает, но это общество, основанное сразу после смерти Надсона, было создано, как сказано в его уставе, «для пособия нуждающимся литераторам и ученым» от поступлений от изданий поэзии С.Я. Надсона. Оно-то и поддерживало оставшегося без средств опального советского поэта после исключения из Союза писателей СССР.
И что еще здесь примечательно, что эта книга была подарена Екатерине Александровне в день её рождения двадцатилетней Натальей Львовной, дочерью Л.А., о непростых взаимоотношениях которой с Е.А. упоминалось выше. Но и она любила Надсона, как видно из ее душевной и теплой трогательной надписи на книге: «Родной Катюше» - 7.12. 1952 года.
- «Да, Надсон был забыт в СССР, вернее был замолчан, - продолжил свой рассказ латыш – изгнанник. - Однако все-таки не всеми. Расскажу историю, связанную с непосредственным моим участием в войне и русским летчиком, любителем полузабытого поэта. Вдруг кто-то и узнает в нем родного человека, отца или, быть может, деда.
Однажды немцами был сбит советский самолет, но летчик остался жив и взят в плен. Вызывают меня для перевода его ответов на допросе. Симпатичный рослый парень в теплом летном комбинезоне. А на скамейке рядом вещи, отобранные у него при обыске. И вдруг я вижу среди них и томик Надсона. Невольно отвлекаюсь от переводческой работы, беру в руки книгу своего любимого поэта и читаю:
«Не говорите мне: он умер – он живет!
Пусть жертвенник разбит – огонь еще пылает,
Пусть роза сорвана – она еще цветет,
Пусть арфа сломана - аккорд еще рыдает».
Летчик сначала наблюдает за мной. Потом решив, наверное, что эту его книгу я забираю насовсем, и что она будет конфискована, срывается вдруг с места, пытаясь вырвать у меня ее из рук. Я успокаиваю его и говорю, что тотчас же верну после допроса и что я такой же, как и он, ценитель творчества Надсона».
К сожалению, как рассказал наш соотечественник, во всей Новой Зеландии, имеется один лишь сборник этого, и в самом деле яркого и интересного поэта. Но он находится не в Веллингтоне, а в столице - в Крайсчерче в собрании Национальной библиотеки. Вот и «приходится» – Интернета еще не было – «по зову и велению сердца», ездить на южный остров, чтобы почитать стихи и полюбоваться прекрасно изданной в С. Петербурге книгой «съ портретом, факсимиле и бiографическимъ очеркомъ» Надсона. Мир удивительно устроен, но, по его словам, книга в Крайсчерче оказалась тем же изданием, которое он видел у летчика, и тем, которое он сам оставил дома, покидая Ригу. И это не конец всем совпадениям. Потом я обнаружил, что и мой сборник, доставшийся мне по наследству после смерти Е.А. Мелентьевой, был тоже литфондовским - 24-м 1909 года изданием. И еще. Заново перечитав его уже сейчас, я обнаружил, что Надсон современен, наткнувшись на строфу, которая совсем про наше нынешнее время:
«И горько сознавать, что об руку с тобою
Кричит об истине, ломаясь пред толпой,
Прикрытый маскою, продажный фарисей!»
Возвратившись в Ленинград из рейса, я все не мог забыть ту нашу встречу и этого несчастного интеллигента, так любящего Россию и ее поэзию. Вставала в памяти картина нашего прощания, грусть в его глазах, согбенная фигура в зарешеченном окне пустой холодной и безлюдной книжной лавки. Мы уходили на корабль, который был для нас частичкой родины. Он оставался, как сказано у петербуржского поэта Надсона: «среди убогих стен чужого городка, закинутый туда случайною судьбой»!
Хотелось хоть чем-нибудь ему помочь. И в качестве подарка - привета с родины я решил послать ему стихотворения Надсона. Долго искал и, наконец, мне удалось – я выменял у книголюбов томик из малой серии «Библиотеки поэта». Тоже редкое издание 1958 года – лишь третье за всю историю советской власти.
И так удачно получалось, что в это время в рейс на новом, только что построенном в Финляндии НИС «Академик Федоров», отправлялся в Антарктиду московский мой коллега, который был тогда со мною в той книжной лавке в Веллингтоне. Он обещал все сделать и доставить книгу адресату. Однако через полгода возвращается из плавания и отдает ее обратно. Говорит, что не нашел, и там уже не оказалось латыша – филолога, ценителя поэзии и охранителя русской культуры.
Быть может, так оно и было. Но что-то мне подсказывало возможность и иного сценария развития событий. По «зрелом размышлении», он «просто» побоялся вступить в контакт с немецким «прихвостнем», с «пособником фашистов». Нет, я не упрекаю, сердиться тут нельзя. Нам русским шагать за лидером всегда легко, привычно, а самому решиться на поступок, преодолевая сидевший и в нашем поколении страх перед системой весьма непросто. Ну, и потом, наверняка, он был в такой же связке «русской тройки», и в самом деле мог рисковать своей карьерой. Так что пусть его осудит тот, кто не жил в ту эпоху, полную контрастов и противоречий.
Такие были времена, когда мы все здесь жили под присмотром и подозрением. Есть у меня хороший друг, талантливый ученый, специалист в области контроля загрязнения атмосферы. Много лет работал во Всемирной метеорологической организации в Женеве и в представительстве СССР в UNEP – специализированной программе Организации Объединенных Наций по изучению природной среды и контролю региональных и глобальных трендов ее изменчивости. Работал также результативно много и в ее региональной штаб-квартире в Найроби в Кении. Долго возглавлял важнейший Департамент по экомониторингу Средиземноморского и Черноморского бассейнов. Сам родом он из Шахт Донецкой области. Немцы дважды проходили через их город. Первый раз в двадцатых числах ноября 1941 года, когда они добрались до Ростова, но вскоре были выбиты из тех краев. А во второй раз в июле 1942-го весь район Донбасса попал под немцев и уже надолго. Жить в Шахтах стало невозможно - отец на фронте, мать с двумя детьми, нет ни работы, ни продуктов. Как-то дотянули до зимы, а дальше стало и совсем невмоготу. Решили «по первому снегу» оправиться к родным на запад под Харьков вглубь находившейся под немцами советской территории. Мать друга - Ирина Кузьминична впряглась в детские санки, усадила младшего на них, а мой Иван четырехлетний помогал ей сзади, подталкивал братишку в спину. Пятьсот километров прошли они по снегу и морозу. Родные помогли, и как-то вместе выжили.
А потом, с приходом наших войск опять вернулись в Шахты. Узнали, что отец погиб, так что мать одна уже воспитывала сыновей, и довела обоих до высшего образования. Иван мой защитился, стал кандидатом наук, известным в СССР и в мире экспертом в области гидрометеорологии и контроля окружающей среды. В итоге был командирован за границу. Но каждый раз при рассмотрении документов надо было доказывать, что он «не верблюд» и объяснять, почему и как он оказался в оккупации. К концу войны ему едва исполнилось шесть лет, поэтому понятно, что в «шпионы» он никак не мог быть завербован! Но все равно – необходимы были «разъяснения». Подозрительность ко всем и каждому, к своим же, незапятнанным, так скажем, подневольной службой в немецкой армии подобно латышу филологу. В итоге все-таки его «пускали» в «загранкомандировки». Но, скольких это нервов стоило - быть вечно под подозрением. И кто там «виноват» был? Сами же и проглядели, «прошляпили», что немцы добрались до Кавказа, а на Эльбрусе установили германский флаг! «Рассчитываться» же за эти, мягко говоря, «просчеты» приходилось порядочным и честным людям, подобным моему Ивану.
Или Альфреду (Олегу) Николаевичу Цамутали, которого, вот, «угораздило» родиться здесь у нас в России немцем. Мальчишкой из блокады по Ладоге его успели вывезти. Но надо же, «придумали», и эшелон из Ленинграда послали в Пятигорск. И уже оттуда и детей, и взрослых, всех, кто по паспорту считался немцем, при втором броске Германии на завоевание Кавказа спешно «перенаправили» через Дербент и Каспий в Туркмению. Целые составы набрались таких, как он, людей с немецкой кровью, которых потом пересылали дальше в ссылку в Сибирь в Барабинские степи. Мир тесен - мы оказались с ним тогда почти что рядом. Я с отцом на Барабинском аэродроме, а он в детдоме. Потом уже «во взрослой жизни» мы встретились, и наши судьбы переплелись. Он стал профессионалом - специалистом по гражданским самолетам, «бортинженером». Я тоже стал летать и получил диплом «борт-аэролога». Но по сравнению с ним остался все-таки «любителем» – руководил научными полетами. Наши «судовые роли» (есть такой специальный термин на флоте и в авиации) переменились, но в нашем общем деле мы друг друга «дополняли».
Альфред Николаевич стал инженером высочайшей квалификации, возглавил инженерную авиационную службу Ленинградского авиаотряда. Солдату дают задачу разобрать винтовку или автомат и ставят высшую отметку за минимальное потраченное на ее решение время. А мой дорогой Олег был, что называется, инженером от Бога и мог почти «вслепую» разобрать механику, электрику и двигатели и, так скажем, ходовую часть всех когда-либо выпускавшихся в СССР гражданских самолетов. Приведу несколько отрывков из искренних от всей души написанных стихов наших друзей пилотов. Написанные после смерти Альфреда Николаевича они дают предельно точное определение и самому ему, и «качеству» его труда: «Он как в детей влюблен был в самолеты, в них видел он живое существо», «не тлел он в жизни, а горел пожаром», «не боялся черновой работы, как проклятый трудился в АТБ, в глазах его светились радость, торжество», «таких людей немного в жизни встретишь, и на добро ему добром ответишь», «в отряде всем нам верная рука», «неправым все он выскажет в глаза». Ну, и главная итоговая самая высокая мужская характеристика этого большого человека, данная ему летчиками: «Осиротели мы, нет с нами Цамутали - на помощь к нам он больше не придет», «душ людских с понятием инженер»!
Человек высочайшей скромности и порядочности - сам промолчал, эту историю я узнал от штурмана нашего экипажа, что великий итальянский тенор Лучано Паваротти, для которого они в 1990-е годы перевезли по воздуху тонны декораций Мариинского театра из Петербурга в Прагу, захотел сфотографироваться с русскими пилотами, но попросил позвать и бортинженера. Объяснив при этом, что уважает «летающих» людей профессионалов, и понимает, как трудно это было разместить в салоне самолета Ил-76 все эти гигантские сложнейшие объемные конструкции и доставить их в целости и сохранности.
Мы с Олегом Николаевичем тоже много и счастливо потрудились, а главное - удачно. Удачно в смысле, что, если и падали, то чудом, а верней его талантом, уцелели. На самолете-лаборатории ГГО Ил-18 мы с ним летали в Арктике, вместе работали в первом советско-американском эксперименте в области спутниковой метеорологии и океанографии «Беринг». А после этого были полеты за границей в Сенегале в Африке, где в рамках Тропического эксперимента АТЭП (GATE) проводились международные исследования зоны внутритропической конвергенции. Восходящие и нисходящие потоки над Атлантикой вблизи экватора играют с самолетом как с легонькой игрушкой. Плюс обледенение и разряды молний такие, что впечатление, как будто за бортом перед пилотскою кабиной работает электросварка. Тогда нам повезло, и после 900 метров падения - это примерно полторы минуты невесомости, мы все же выровнялись. Машина наша сильно пострадала, она буквально вся была избита градом. Многие метеодатчики на крыльях и на фюзеляже были разбиты, подвесные «подбрюшные» гондолы самолета с измерительной аппаратурой изувечены, радиопрозрачный колпак антенны радиолокатора как будто срезало ножом. Но мы остались живы чудом и благодаря летному искусству и мастерству «моего» пилота Леонида Валерьяновича Загорского. Не меньшая заслуга в этом была и бортинженера Олега (Альфреда) Цамутали, поддерживавшего летающую лабораторию Ил-18 в безупречном техническом состоянии.
Но для «компетентных» органов все эти наши «подвиги» были вторичны. Им было невдомек, что тот, кто падал, кто заглядывал смерти в глаза, не мог ни врать, ни подличать. Так что перед отправкой за границу в экспедицию ему и мне (но о моих «делах» и моих «проблемах» рассказывать не стану) было необходимо показывать свою «благонадежность» и лояльность режиму. И снять их «подозрения», что он семилетний немецкий русский мальчик делал в минувшую войну и как он из блокады оказался в ссылке за Уралом!
Для молодежи это может быть и не понятно, но в те времена война, в особенности ленинградская блокада, были темами почти запретными, замалчиваемыми. Причина? Живы были очевидцы тех событий. Да, и чем было гордиться советским лидерам, не желавшим признаваться в некомпетентности и собственном невежестве. А иногда, карта войны и блокады разыгрывалась на их внутренних коммунистических «разборках» для устранения политических противников и конкурентов.
Всем старым петербуржцам из поколения Л.А. памятны события вокруг закрытия в ходе «ленинградского дела» Музея обороны Ленинграда, размещенного в стенах музея барона Штиглица. Помню, как школьниками, нас туда водили с классом. Как трепетали мы при виде военных трофеев и множества художественных диорам, наглядно демонстрировавших страдания отцов и дедов, старших братьев, узнавших «реалии» жизни немного раньше нас. Место для музея было выбрано, правда, не из самых подходящих. Но это не предел «прагматизма» большевиков при пользовании архитектурными шедеврами, когда радениями Кирова и Жданова по всей стране взрывалась соборы и церкви или «в лучшем случае» в них устраивались овощехранилища. До этого там была областная сельскохозяйственная выставка, когда в дворцовые апартаменты «вселялись» высокопородистые коровы и свиньи. В итоге убранство роскошных залов на первом этаже музея оказалось полностью утерянным.
65 лет прошло после победного 9 мая 1945 года. И это, наверное, уже последняя из «круглых» дат для тех действительно последних живых, заставших и переживших ту войну. Поэтому и отмечают ее сегодня так широко в России. А о самой войне - трудно себе представить даже, какую цену заплатили здесь простые люди за победу над фашизмом.
Вернемся, однако, вновь к истории, рассказанной вначале о Л.А. и книге Носова и о возможном поражении России в Отечественной войне. И вправду, замечательная оказалась книга, потрясшая меня и моего московского друга Володю Волкова, которому я также рассказал о ней. Мы летали вместе на «моем» Ил-18, занимаясь общей аэрокосмической «тематикой». Я познакомил Л.А. с Владимиром Георгиевичем, который был специалистом по антенным системам и работал в одной мощнейшей столичной «радиотехнической фирме», увы, не пережившей всех перемен от «перестройки и гласности». Володя умер в те же годы вместе со своим НИИ. И кто бы посчитал, сколько хорошего и умного народа тогда погибло, оставшись без работы и без дела, горячо любимого. А место, которое он занимает в моей жизни, можно обозначить строчкой Окуджавы: «Москвы не представляю без такого, как он, короля»!
Так вот, я завершаю рассказ мой об «Усвятских шлемоносцах», на которых мне указал тогда Л.А. Книга, произвела на нас такое впечатление, что мы решили отправиться на поиски села Великие Усвяты, где разворачивается действие - нет, не романа, а все же, повести Евгения Носова.
Конечно, мы предполагали, что, вероятнее всего, Усвяты некий собирательный образ русской деревни, придуманный писателем фронтовиком, но все-таки отправились в дорогу. Мы ожидали, безусловно, и того, что наше путешествие в российскую «глубинку» может оказаться непростым. Но в качестве «точки отсчета» (любимое выражение моего Володи во всех его делах), как «эталон» и образец подобных автомобильных странствий по России, у нас был опыт Л.А. и его «бросок» на Белое море на 401-м «Москвиче».
Лето 1975 года. Дороги не просто плохие, а ужасные, и при этом практически пустые. Машин в «европейской» части РСФСР, как и в начале 1950-х в Заонежье у Л.А., как будто бы еще не знали. И если что там случится, расчет мог быть, как у китайцев хунвейбинов, только на «собственные силы». Однако «Москвич М-426» прекрасная машина, с великолепной проходимостью, но главное вместителен. Так что в моем пикапе расположились оба наши семейства, включая и детей, для которых эти встречи со страной, с ее историей, знаю, остались в памяти.
И, знаете, мы нашли Усвяты в Велижском районе Смоленской области вблизи границы с Белоруссией! Исколесили, правда, перед этим бескрайние пространства Ленинградской, Новгородской, а потом и Псковской области, включая район Великих Лук, входящий ныне в состав объединенной Псковщины. И все там в тех местах во всех деталях и «географических» подробностях совпало целиком и полностью с описаниями книги Носова.
Шоссе, разбитое тракторами до песчано-глиняной своей подложки, зеленые луга, поля, холмы, долины березовые перелески, широкая спокойная река, заросшая по отлогим берегам стеной стоящими кустарниками. Печальные деревья у знака «населенный пункт» Великие Усвяты. Поворот направо на проселок, который весь в ухабах и по которому все же мы, хоть медленно, но как-то продвигаемся. Вечер и уже совсем темнеет, пора бы поискать и место для ночлега, а деревни нет и нет. Не обманулись ли с дорожным знаком при съезде на обочину? Но тут, наконец-то, вдруг видим впереди дома, сараи, стоящие не в ряд с большими промежутками вразброс.
На шум машины и свет фар выходят люди. Но почему-то одни лишь женщины, и ни одного мужчины. Конечно, поздно, могли и задержаться на работе. Узнав о «странной» цели нашего приезда в их богом позабытые края, приветливо и ласково нам начинают улыбаться. О писателе, который мог бы побывать у них в деревне перед войной 22 июня 1941 года, они не слышали. Но это и не важно. Приехали и хорошо – заходите в гости. Благодарим, но мы хотим остановиться на природе.
«Какая там природа, какие там палатки!», - жалеют женщины чудаковатых москвичей и ленинградцев, особенно детей. Настаивают, чтобы непременно расположились в избах, чтобы посидеть всем вместе, поговорить, попить чайку, а может и покрепче что-нибудь найдется. Потом и утром так же вкусно, просто и сытно нас накормили, принесли в дорогу парного молока, картошки, овощей и фруктов из своих садов и огородов, не взяв с нас ни копейки за продукты и «постой». И даже оскорбились на все наши настойчивые предложения денег.
Да, оказалось, эти пять-шесть домов и есть бывшее село Великие Усвяты, где жили сотни лет, трудились на земле, любили, веселились и были счастливы их предки. И это все, что тут осталось после войны от прежней жизни. Правда, если проехать дальше километра полтора, вблизи реки имеется еще один малюсенький живой «осколок», уцелевший от некогда большой деревни. Но и там и тут все нынешние жители села Великие Усвяты одни лишь женщины, в 20-ть и чуть старше лет оставшиеся вдовами!
Бывал ли здесь большой талантливый писатель Евгений Носов, я не знаю. Но и здесь у них в июне 1941-го было точно так же, как описал он в книге. Так же провожали они своих мужей, отцов и братьев, и точно также, как ни ждали и ни надеялись, ни один из них к ним не вернулся. Были совсем еще девчонками, а теперь, вот, уже глубокие старухи, не заимевшие ни собственных детей, ни внуков. И сколько их таких по всей моей стране, не знавших молодости и счастья женского. Судьба России и русского народа - 27 миллионов не вернувшихся мужчин из поколений, родившихся до конца 1920-х и погибших в 1940-х годах.
И, наконец, еще одно очередное «эхо» войны - история, которую узнали мы, разыскивая село Усвяты. Деревня Смоленка на Псковщине, река Великая и ее приток Череха. Разрушенный собор на правом высоком берегу, по своему величию и красоте сравнимый разве что с прекрасным стасовским твореньем Троицким собором Измайловского полка в С. Петербурге. Нам рассказали, как когда-то к ним приехал на мелиоративные работы парень из Азербайджана. Встретил нашу девушку, полюбили они друг друга, решили пожениться. Но, как положено у них там на Кавказе, надо получить согласие на брак родителей. Вызывают старика отца, жившего в горах в дальнем глухом селении Нуха - Киши.
Приезжает старик азербайджанец в эту русскую деревню. Показывают ему тамошние красивые места, окрестности. И вдруг он узнает: «Да, я же был здесь - воевал в 1944-м! Помню, как лежал вон в том распадке. А, когда пошли в атаку, сколько там погибло наших, не перечесть. Река ваша стала красною от крови. Без преувеличений, в полном смысле и значении слова. Как остался жив, как уцелел тогда, не понимаю. Судьба!», - заплакал старый горец.
Так получилось, что, когда мы отступали на восток, откатываясь вглубь территории своей страны, то почти без боя сдавали собственные земли. Зато потом, когда мы двинулись на запад, то приходилось с великой кровью штурмовать все эти многочисленные «водные преграды», стоявшие у русских на пути к Берлину. По географическим законам и по закону «подлости» - есть и такой в России, все большие реки, текущие на юг - Днепр, Дон, Буг, Березина, как, впрочем, и средние и малые речушки, имеют высокий правый берег. И эти дополнительные водные препятствия приводили к новым жертвам, и, как итог, стоящие потом пустые села и деревни, населенные одними стариками, вдовами и малолетними детьми.
Вспомним и о поверженных врагах – тех, кого мы победили. Враг нам достался дерзкий, умный, умевший и главное хотевший воевать, «пассионарный», по определению Л.Н. Гумилева, «раскрученный» фашистской пропагандой, подвигнувшей немцев на покорение новых «жизненных пространств, необходимых 1000-летнему рейху». Чтобы сломить, сломать и победить немецкого солдата, была необходима уже ответная российская «пассионарность». Недаром вспомнили у нас тогда традиции былых времен и их героев, и о роли в нашей жизни церкви.
Об этом мало кто писал. По крайней мере, я не встречал развернутого подробного исследования, а оно нужно и для России и мира, как и почему после войны так быстро и относительно легко мы «замирились» с немцами. И почему никак не можем простить и подружиться» с «малыми» народами, причинившими нам в ту войну не меньше слез и горя, например, с поляками или прибалтами.
Помню, как в послевоенном детстве мы ненавидели вначале все немецкое, как давали нехорошим людям презрительные клички «фриц», «фашист». Ну, а потом сработал, наверное, наш менталитет - чувство русское глубинное прощения заблудших, но достойных врагов, и та самая русская душа, о которой так много говорят не только сами русские. Поработала здесь и наша «контрпропаганда», но об этом позже.
Я упомянул уже о немцах занятых на разборке развалин церкви Кавалергардского полка на улице Захарьевской. Но не сказал при этом, как наши женщины, по виду простые обыкновенные работницы, завидев издали колонну пленных, идущих на работу в сопровождении двух-трех охранников, осеняли их крестным знаменем. Для молодежи и атеистов поясняю – бог видит и поддерживает человека, осененного крестом в тяжелую годину. И вообще военнопленных в Ленинграде содержали тогда не очень строго. Случалось, что и в дома они входили, спрашивали на ломанном русском языке понятное тогда любому пережившему блокаду человеку: «леба - леба». И наши - тоже полуголодные, сидевшие на карточках, видя страдающие лица, делились с немцами последним.
Моя сотрудница по обсерватории Надежда Петровна Пятовская, с которой мы в те годы, оказывается, жили по соседству на Петра Лаврова, рассказывала. В их дом № 10 на углу Друскеникского переулка попала бомба, но дворовый флигель как-то все же уцелел. Правда, часть крыши в нем отсутствовала, и из ее квартиры на верхнем этаже был вид не только на нашу улицу, но и на небо. Она студентка, и вдруг стучится немец, просит: «Фроляйн, дайте что-нибудь!». Как посчитали очень старые питерцы, из самых обстоятельных и самых дотошных, в Ленинграде за время советской власти было три голода - 1918-й, 1932-й год, и, вот, блокада. Но и послеблокадный тот период был тоже очень непростым. В конце 1944-го норму прибавили и уже давали 600 граммов черного и 200 белого. Обычно свой белый хлеб она, по молодости и интересу к жизни, меняла на билеты в филармонию и в Государственный академический театр оперы и балета имени С.М. Кирова, который начал работать под «октябрьские» праздники в начале ноября 1944-го. Что делать – пришлось остаться без «культурного мероприятия» и поделиться с незваным в Россию «гостем» половиной своего тогдашнего «богатства».
И еще один отдельный комментарий к этому движению души Надежды Петровны. Ленинград после блокады восстанавливался быстро. Но о чем теперь почти не вспоминают, так это, что «своих» мужчин тогда почти что не осталось, поэтому наш город возникал из пепла и руин с помощью военнопленных, Про немцев в послевоенном Ленинграде говорили – были достойные умелые противники, хорошие солдаты, теперь - толковые работники, трудившиеся, в том числе, и на восстановлении бывшей императорской Мариинки! Окажетесь там на балетах в постановке Мариуса Петипа или на оперных спектаклях Валерия Гергиева, вспомните об этих людях, славно там поработавших на ликвидации последствий преступлений фашистского командования. Авиационная бомба попала прямо в купол здания, разворотив весь центр зрительного зала. На счастье уцелела уникальная большая хрустальная люстра, которая была убрана в подвалы Исаакиевского собора.
Открывали наш Кировский «Князем Игорем» Бородина. Дирижировал Борис Эммануилович Хайкин, который до отъезда в Москву в Большой был главным дирижером театра. Главную партию исполнил великий русский бас двадцатилетний народный артист Советского Союза Алексей Кривченя. Начало ноября, и было уже холодно, поэтому входили в полутемный зал в пальто, не раздеваясь. Знаменитую торжественную увертюру к опере оркестр исполнил с большим подъемом и очень празднично, но тоже при почти блокадном освещении. Но сразу после окончания ее поднялся прекрасный головинский занавес, и вдруг во всем театре зажегся полный свет. Все освещение в зале и на сцене загорелось ярко на всю мощность. Зажглась и засияла тысячью огней главная люстра, зажглись все бра и канделябры. К свету ламп и лампочек добавилось сияние золота декора царской ложи, бельэтажа и ярусов вплоть до студенческой галерки. И еще один эффект прекрасный вдохновенный создавал зеленовато-голубой плафон под куполом. Вновь восстановленный воздушный покрытый новой свежей краской устремленный ввысь он поднимал пространство зала. Впечатление было потрясающим – это была реальная конечная победа над фашизмом, над блокадой Ленинграда. Мы победили, мы непобедимы, и мы действительно теперь пассионарны!
И еще одна, вернее «полторы» истории к моему рассказу о военнопленных. Бывало, спрашивали и работу. Однажды такой же худой голодный немец, зашедший с улицы в квартиру Надежды Петровны, сказал, что он рисует. Она не удивилась. Об этом знали в городе, что немцы изготовляют из фанеры красивые раскрашенные «домики – копилки» и через торговок с Мальцевского (Некрасовского) рынка продают их детям. Особенно их полюбили девочки. Не знаю почему, быть может, страсть к «накопительству» в критических условиях им свойственна по первородному призыву пола. «Нет, - возражает немец. - Не для копилок. Именно для рисования». Ладно - отдала ему все масляные краски, остававшиеся у них в квартире после умершего в блокаду в соседней комнате художника. Что он нарисовал в итоге и выжил ли, конечно же, она не знает, но, может быть, помог ему господь. Но эта история, а может быть и другая, на нее похожая, имела продолжение.
Уже во время «перестройки» зашел я как-то в антикварный магазин. Смотрю, висит картина маслом на фанере. Три большие недавно сорванные розовые розы и шесть нераспустившихся бутонов в листьях. Много роз и много зеленых свежих листьев в вазе, стоящей на уголке стола на белой скатерти. Недорогая, безусловно, но с каким-то необычным изыском светло-коричневая рама. Стоит все это 300 тысяч. Сумма, вроде бы, большая для меня, но и не слишком. Инфляция и бедность в то время были дикими у нас в стране - счет даже за продукты мог идти на миллионы. Обнаружилась и подпись на картине по-немецки – «F. Mehlhase, 1948». Купил. Кому-то видно, очень потребовались деньги, вот и выручил их пленный немец. Уверен, что автор натюрморта был именно военнопленный. В год написания картины наш русский российский немец ни за чтобы так «в открытую» не подписался. Наоборот, пытаясь всячески себя избавить от «позорящей» его графы национальность в анкете, во всех своих делах старался бы как можно тщательней «замаскировать» такое «неудачное» свое происхождение.
Помню я и то, как без презрения и гнева смотрели на колонны немцев, идущих на работу в ряд по центру улиц Потемкинской и Салтыкова-Щедрина, и русские советские военные из тех, что были «отбракованы» из армии по «состояния здоровья». В городе в те годы было много наших офицеров - молоденьких танкистов, летчиков, горевших, но, на счастье, не сгоревших в своих танках или самолетах. Мы их сразу узнавали днем на улице, а вечером на танцплощадке в Таврическом саду, по обожженным красным и бугристым лицам, изувеченным огнем, подглядывая через ограду, как их нежно обнимали девушки в модных платьях с «плечиками» из крепдешина и креп-жоржета и «шестимесячной» прическою на голове.
Смотрели без всякой злобы на военнопленных и безногие торговцы «петушками на палочках» и семечками. Они сидели при входе в сад, призывно зазывая купить всего за пять копеек на выбор их такой необыкновенно вкусный - сладкий или хорошо прожаренный товар, произведенный, соответственно, здесь в Ленинграде «на дому» или привезенный из южных областей России. Помню, как лихо они катались на деревянных низеньких тележках на шарикоподшипниках и как мощно отталкивались от земли руками, ловко избегая столкновений с автомашинами, панически сигналящими миниатюрным живым препятствиям, несущимся навстречу им с весьма приличной скоростью. Помню и тот характерный звук - звон, лязг и перекатывающийся треск «трения качения» подшипников при передвижении колясок по асфальту мостовой и перестук ударов по стыкам плит на тротуаре пудожского известняка. И до сих пор вся эта музыка послевоенных ленинградских улиц звучит в моих ушах!
Другая часть безногих инвалидов на тележках занимались более высоким «бизнесом», если называть их труд по-нынешнему современно. Они ходили, вернее, катались по дворам и на трофейных аккордеонах трогательно пели замечательные русские народные песни и песни времен войны. Ярко и весело - запоминающе исполняли они и озорные хулиганские частушки. Через 30 лет я их вновь услышал в исполнении белоэмигрантов цыган, чьи пластинки и магнитофонные записи тайком от «замполита» мы покупали при заходах нашего научно-исследовательского судна на отдых в «бананово-лимонный» порт Сингапур. Некоторые из этих безногих музыкантов имели хороший слух и были весьма искусны и в пении и в игре на этом превосходном богатом звуком музыкальном инструменте. А один из них, помню, исполнял партию аккордеона с мастерством и блеском и почти парижским многоголосием виртуозных переборов аккомпанемента.
Трудились они и зимой и летом, и в снег и в дождь, в любую непогоду, за что кидали им люди из окон люди все больше медные свои копейки. Но копейка тогда была весомой значимой по «покупательной» своей способности, не то, что нынче, когда за ней нагнуться ленятся, а, может, даже и стыдятся. Помню, как хлопали и открывались форточки, и кто-то добрый и по той послевоенной мерке щедрый призывал нас малолетних пацанов, чтобы пакетик с мелочью, завернутый в туго завязанную газетную бумажку, не затерялся и не попал случайно в дрова, занимавшие почти всю площадь всех дворов по улице Петра Лаврова. И эти тоже - и кидающие и ловящие копейки смотрели на колонну пленных немцев без ненависти, а порой с сочувствием и состраданием. И это тоже точное и очень памятное мое свидетельство о состоянии нравов послевоенной той моей эпохи.
Раз речь зашла о детях, расскажу еще одну негромкую историю, имевшую, однако, так скажем, большие, гуманитарные последствия. Дело происходило на Псковщине в той самой Смоленке, о которой говорилось выше, располагающейся на правом высоком берегу залитой русской кровью реки Великой. И, тем не менее, многие десятки лет там вспоминали добрыми хорошими словами немца, квартировавшего у них всю войну. Да, и до сих пор, наверное, помнят, если только не «ликвидировали» нынче их деревню нынешние сельскохозяйственные «деятели».
Называли его Глебом, на деревенский манер переиначивая трудно произносимое и непонятное для русских германское его имя. Он был хром, потому, наверное, и не попал на фронт, а по специальности портным, и все время оккупации работал там у них в тылу в деревне в портновской мастерской на ручной машинке «Зингер». Когда же немцы уходили, он потихоньку без дозволения начальства оставил ее нашим женщинам. По тем временам в деревне, да и в городе, это было огромное богатство, императорский подарок. Плюс позже уже сами они как-то умудрились переделать ее в ножной вариант – были и есть, я думаю, в селеньях наших великие умелицы. А потом многие годы не только смо’ленские, но все окрестные крестьянки выстраивались в очередь, чтобы обшить себя и детишек своих от мала до велика. Добрые дела в этом лучшем из миров не исчезают, помнятся. Так что, по твердому убеждению моих рассказчиц, при всей тогдашней нищете и голоде дети росли у них здоровыми и крепкими и потому, что, благодаря глебовой машинке «Зингер» были в тепле, не простужались.
Теперь о роли большевистской пропаганды в послевоенной жизни. Забавно, но западные немцы, в своей массе не любящие «гэдээровцев», должны быть благодарны им за поворот в «мозгах» простых людей в России. И объясняю популярно, почему? Нас сызмала тогда учили - давали «установку», что всем, кто пережил войну, надо забыть про преступления фашизма, постольку есть теперь в Германии новая «хорошая и справедливая немецкая страна» с названием ГДР. А та другая, что далее ее на западе, в ней все плохо и там преобладает «дух милитаризма и реванша». И так, как нам «подсказывали» думать «знающие люди», так в массе все мы тут и поступали!
К тому же после возвращения военнопленных на родину, «прямых контактов» больше не было. Однако наступил момент, когда мы снова, наконец-то, «лично» встретились. Это случилось в институте, где вместе с нами учились ребятами ГДР. И это оказались такие умные, такие честные и такие правильные, чистые и светлые, аккуратные, пристойные, такие симпатичнейшие девочки и мальчики с эмблемой FDJ на синих блузах. У нас анархия, шатания, разброс в умах, в поступках, безалаберность и хаос. У них же «Фрайе дойче югенд» - «Союз свободной немецкой молодежи» - «гэдээровский» комсомол, где дисциплина и порядок во всех делах - в учебе, в спорте, даже в их в скромной общежитейской «личной» жизни. Ну, эти-то уж точно должны построить коммунизм «в отдельно взятой изолированной стране», так в большинстве своем мы думали.
У нас тогда учились студенты из самых разных стран «соцлагеря» – от Венгрии, Чехословакии, Болгарии и Польши до маоцзедуновского Китая и Монголии. Разные были ребята, но с кем общались мы, кого мы уважали за высочайшую порядочность и трудолюбие – это китайцы и «гэдээровские» немцы. Возникли и любви. Мой соученик по группе Боря Кушнир, для которого это оказалась не просто детская влюбленность, а настоящая высокая любовь к немецкой девочке, которую он пронес до самой смерти. Не буду выдавать ее фамилии – она потом уехала к себе домой в восточную Германию, а Боря наш в итоге так никогда и не женился. И это было еще одним из результатов нелепых нравственных коммунистических запретов тех лет: другое государство, пусть даже «дружественное», пусть «свое» и правильное, но все равно – н е л ь з я!
Потом настала перестройка, и рухнула «берлинская стена», когда мы встретились и подружились по-человечески уже и с «западными» немцами, которые, вдруг «оказались» людьми вполне «нормальными» и адекватно реагирующими на доброе к ним отношение. И в подтверждение этого «тезиса» приведу одно душевное хорошее письмо, полученное мной в сентябре 2009 года. Оно понятно и без перевода. Скажу лишь, что Линде, о которой идет в нем речь, родилась 1 сентября 1939 года – в день начала 2-й Мировой войны. А имя, которое ей дали при рождении родители происходит от «Unter den Linden» - главной улицы Берлина. Моего же друга из Нюренберга назовем условно Вольфганг Амадей. Вот это его открытое и откровенное сердечное письмо, которое я привожу здесь полностью:
«Hello my dear friend,
What a surprise Your e-mail. And what a world we live in that we can see this entire great art in the whole world as well in the National Gallery of London. I'll send You an oil painting «Dulcinea» from a ex-Russian artist Narazian Vachagan from Kharkov, oil on hard fibred board. We bought this 1992 in an Art gallery in Nurnberg. So you see my long lasting connection to Russian culture. Well I'm sorry that I didn't react to Your letter transferred in times ago. Thanks a lot for Your warm greetings.
I hope You doing fine. We have had pretty much happenings very cowed and one of them was Linde 70-th birthday happening in the nice landscape Harz in the north of Germany near Leipzig west. With a ride on an old steam train up to the mountain «Great Brocken» 1141 m high an the walking back to the nice place Hapimag of Braunlage. And what a blue sky was just on this day to the honor of Lindes anniversary day the first of September 2009 and as well anniversary day this never undo - terrible, dreadful, awful - there are not enough badful words for this anniversary of the beginning Second World War 1 September 1939. And believe me Linde has nothing to do with Second World War... just the duplicity of happenings. We will send You all our warm greets to St. Petersburg.
The summer is going away and we hope we will have today beer garden at Wiethaler. Anyway we will send You a cheers with our beer glass from there with all our best wishes to You. Wolfgang and our cat Kiri».
«В трагедии интересны не погибшие, а и те, кто их оплакивает»! Этой выпиской из заготовок детской писательницы Екатерины Александровны Мелентьевой к неоконченной ей повести о людях Возрождения - венецианских художниках братьях Джентиле и Джованни Беллини, я закончу эту главку.
<-- Предыдущая страница | Содержание | Следующая страница -->
| На главную | К другим публикациям | В начало страницы |